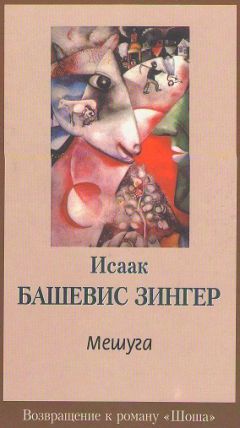Из окна ему открывались небо, звезды, планеты, Млечный Путь. Эта белая туманность, на которую он смотрел, возникла из небесных тел тысячи лет назад, во времена патриарха Иакова или же когда строились пирамиды. Как же странно быть здесь, в комнате на пятом этаже дома на Новолипках, — и говорить с вечностью, с космосом! Как странно, что те же законы, которым подчиняются Солнце и Луна, кометы и туманности, точно так же управляют жизнью и смертью, Муссолини, Гитлером, любым нацистским придурком, который с упоением распевает «Хорста Весселя» и жаждет еврейской крови.
Размышления о Вселенной сменились мыслями о личном, наболевшем. Адаса ушла в себя. Когда бы он у нее ни бывал, она не говорила ни о чем другом, кроме смерти. Даша росла, как придется, общалась, с кем придется. Уже нет, наверно, вещей, которых бы она не знала. И дружит она не только с местными гойками, но и с гоями. Такой ребенок может быть способен на что угодно. Аса-Гешл не раз уговаривал себя, что не играет роли, вышла девушка замуж или живет со своим другом вне брака, спит с евреем или с гоем. И тем не менее это не могло его не волновать. Додик жил в кибуце, в Верхней Галилее, кругом были одни арабы. Выйти из кибуца без пистолета было невозможно. Аделе не находила себе места, когда долго не получала от него писем. Легкомыслие и безответственность мужа Дины Менаше-Довида не имели предела; не давай Аса-Гешл сестре денег, они пошли бы по миру. Хорошо еще, что Барбара не нуждалась в его помощи.
Когда, много лет назад, Аса-Гешл провел с ней ночь в доме польской коммунистки, он полагал, что ночь эта будет последней. Уже был выписан ордер на ее арест. Тогда она только и говорила о том, что надо бы вернуться во Францию, а может, уехать в Россию. Однако она осталась в Варшаве, а он по-прежнему был ее любовником. Отец ее умер. Коминтерн ликвидировал Польскую коммунистическую партию. Одних членов партии посадили в тюрьму, других — в концентрационный лагерь «Береза Картуская». Одни примкнули к правым социалистам, другие вообще ушли из политики. Барбара же, судя по всему, продолжала вести активную подпольную деятельность. Она постоянно куда-то уезжала, числилась — в целях конспирации — бухгалтером на пуговичной фабрике на улице Орля. Одевалась Барбара со вкусом, на митинги никогда не ходила и подписывалась на реакционную газету «Варшавский курьер». Каждое воскресенье она ходила в евангелическую церковь. В ее книжном шкафу не было ни одной политической или социологической книги. На столике у окна лежала отцовская Библия с выбитым на переплете золотым крестом.
Человеком Барбара была на редкость методичным. Если она не находилась в отъезде, то звонила Асе-Гешлу ровно в четверть девятого утра и договаривалась о встрече в ресторане в семь вечера. Каждый платил за себя — эта практика установилась у них с самого начала. Когда они ходили в кино или в театр, Барбара запрещала Асе-Гешлу покупать себе билет. После ресторана они, как правило, ехали к ней. В комнату, которую она занимала, имелся отдельный вход. Барбара включала радио и закуривала сигарету. Спустя некоторое время радио выключалось. Они садились друг против друга на обитые бархатом стулья, доставшиеся Барбаре от отца, и, нежно, хотя и отчужденно глядя друг на друга, принимались беседовать. Обыкновенно Барбара начинала разговор следующим образом: «Ну, что скажете в свое оправдание, подсудимый?» — или: «Итак, какие подвиги вы сегодня совершили во имя контрреволюции?» — «Я сделал все, что было в моих силах», — отвечал ей на это Аса-Гешл.
Барбара улыбалась, демонстрируя свои длинные зубы. Они много раз давали друг другу слово, что вести политических споров не будут, и тем не менее спорили постоянно. Возникал спор на одну и ту же тему: достаточно ли хорошо люди знают историю, чтобы предсказать ее ход. Аса-Гешл полагал, что ход истории предсказать невозможно, поскольку многие факты и обстоятельства остаются в тени. Сама по себе мысль о царстве свободы противоречит причинно-следственной связи. Справедливость не может иметь место в системе, где всякое тело приводится в движение лишь другим телом. Идея равенства вступает в противоречие со всеми биологическими факторами. Барбара слушала его и время от времени вскакивала подкачать керосин в примус. Его слова опровергали все то, во что она верила. И все же говорить с ним было интереснее, чем вести нескончаемые споры с товарищами, с которыми она встречалась на конспиративных квартирах.
— Что же остается? — говорила она Асе-Гешлу. — Лечь и умереть?
— Смерть — не самая худшая вещь на свете.
— Оптимистический взгляд, ничего не скажешь.
Она принималась ходить из угла в угол и искоса поглядывала на него с таким видом, словно ей не верилось, что ее любовником был антимарксист, бывший ешиботник. Рассуждал он как настоящий фашист и при этом прихлебывал чай со всеми ужимками юного хасида. Он наклонял голову, кусал губы, гримасничал. То ей казалось, что перед ней сидит восемнадцатилетний юноша, то — старый, больной еврей. Он не скрывал от Барбары, что бывает у Адасы, видится со своей первой женой Аделе. Когда она уезжала из Варшавы и они не виделись, он представлялся ей более значимым, интересным, чем при встречах. Когда она отдалась ему в ту ночь, много лет назад, связь с ним представлялась ей тем беспечным, необдуманным поступком, какой совершаешь обычно, когда все безразлично, когда с одним любовником рассталась, а другого еще не завела. А между тем во многом ведь из-за него осталась она в Польше, не вышла замуж, стала профессиональной революционеркой, готовой выполнить любое, самое опасное задание партии. Что же будет с ней теперь, когда грядет еще одна мировая война?
Поздно ночью Аса-Гешл одевался и шел домой. Оставаться у Барбары до утра он боялся — могла нагрянуть полиция. Да и Барбаре не слишком хотелось, чтобы соседи видели, как утром из ее комнаты выходит мужчина. Одевался он в темноте. Барбара засыпала и тут же вновь просыпалась, сонным голосом напоминая ему, чтобы он не забыл закрыть за собой дверь. Он натягивал ботинок и садился перевести дух. Как странно: ни он, ни Барбара не боялись Бога, зато перед людьми стыд испытывали. Завязывая онемевшими пальцами шнурки, он пытался оценить свою жизнь. За спиной были годы бесцельных умствований, фантазий, неутолимых страстей. Его мать умерла нищей. Додик вырос без отца. Он, Аса-Гешл, загубил жизнь Аделе — и жизнь Адасы тоже. Даже Барбара все время жаловалась. В погоне за удовольствиями он пренебрег всем — здоровьем, близкими, работой, карьерой.
Аса-Гешл сказал: «Спокойной ночи», но Барбара ему не ответила. Он спустился по темной лестнице. Мяукнула кошка. Проснулся и заплакал ребенок. Каждый раз приходилось долго ждать, пока дворник откроет ворота. Желязная улица, где жила Барбара, была погружена во тьму: газовые фонари едва горели. По углам маячили проститутки. Аса-Гешл шел медленно, с опущенной головой. Начать все сначала? Как? С чего? Он остановился, облокотился на стену дома и тяжело вздохнул. Он страдал малокровием, сердцебиением. Его мучил нервный тик. Он легко простужался. «И сколько же я так протяну?» — спросил он сам себя. В такое время он чувствовал, как жизнь угасает, выходит из него. На Новолипках ему снова пришлось звонить в ворота. Аса-Гешл поднялся на четвертый этаж, открыл дверь, разделся и, даже не постелив постель, лег под покрывало и тут же заснул. Однако вскоре проснулся в холодном поту. Какие только кошмары ему не снились: трупы, похороны, ядовитые змеи, дикие звери. Насилия, убийства, пожары, пытки. Он возлежал со своей сестрой Диной, с собственной дочерью Дашей и даже с покойной матерью. Он дрожал всем телом, кожа покрылась испариной. «Что со мной? Что им от меня надо? Как же я, оказывается, развратен!» Он сбросил с себя покрывало и стал ловить губами воздух. Заболел зуб — его давно надо было вырвать. Колени дрожали. Его охватили одновременно и страх и похоть. Чуть стало светать, на ум пришла старшая дочь Вани. Каждый раз, когда он приезжал в Шрудборов, девочка бегала за ним по пятам. Заглядывала в глаза, пыталась заговорить, остаться с ним наедине в лесу. Да, ей еще не было и семнадцати, но, может, она уже лишилась девственности? Ах, если б только он так не робел, не был таким трусом!
Аса-Гешл старался убедить себя, что готов к предстоящей войне и к преследованию евреев, что со смертью он смирился. В действительности же он испытывал страх. Оказавшись поздним вечером на улице, он крался в тени домов; в районе, где он жил, фашисты из Нары и члены националистических студенческих организаций не раз нападали на евреев. И еще опаснее было идти, как сегодня, с железнодорожного вокзала в Отвоцке в Шрудборов. На этих лесных дорогах ничего не стоило получить нож в спину.
В этот раз, как всегда, когда он приезжал к Адасе, во дворе залаяли собаки. Ванина жена подбежала к веранде с масляной лампой. Даша уже спала, но, услышав, что приехал отец, вскочила с постели и выбежала из спальни, как была, в халатике и шлепанцах. Аса-Гешл не уставал удивляться всякий раз, как видел дочь. Взрослела она буквально на глазах. Наполовину ребенок, наполовину взрослая женщина, она была не похожа ни на мать, ни на отца — скорее, на Каценелленбогенов и Мускатов. Волосы у нее были каштановые, глаза зеленые. И у Асы-Гешла, и у Адасы губы были тонкие, а у их дочери — большие и полные, с изгибом — дерзким и страстным, как казалось Асе-Гешлу. Она смотрела на отца радостно и в то же время хмуро, как смотрят дети, когда их будят. Встречаться с дочерью было непросто. Даша все про него знала, да и видел он дочь так редко, что постоянно должен был напоминать себе: она — его плоть и кровь. После минутного колебания Даша бросилась отцу на шею.