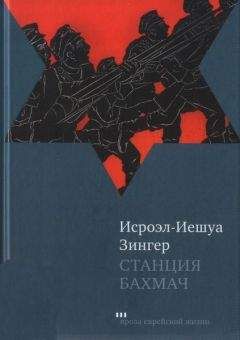— Контрреволюционеры, продажные душонки, прислужники капитала, пособники войны! — кричали люди с винтовками вынужденным протискиваться сквозь них депутатам. — Вас всех надо на фонарях перевешать!
Среди более чем семисот депутатов, прибывших со всей большой России на Учредительное собрание в Петербург, были и два лодзинских революционера — Нисан Эйбешиц и Павел Щиньский. Они вместе отбывали ссылку в Сибири, где день и ночь изучали марксистские книги. Позже, во время Русско-японской войны, они бежали оттуда, продолжили работу в Лодзи, а потом снова встретились в тюрьме. Революция освободила их. Теперь оба шли в Таврический дворец на открытие Учредительного собрания как избранники народа России. Однако и их одежда, и их взгляды отличались. Щиньский шел в военном френче, в армейских сапогах и с револьвером в кармане. Он был из тех, кто теперь держал власть в руках. С тем же фанатизмом, с каким он прежде носился с марксистскими книгами, ни на минуту не выпуская их из рук и смертельно ненавидя всех, кто ими гнушался, он теперь никуда не ходил без револьвера, таскался с ним повсюду и ненавидел тех, кто не признавал в низкорослом человеке с голым черепом вождя революции. Нисан шел, как обычно, в расстегнутом пальто с оттопыренными карманами, набитыми газетами, брошюрами, тезисами и резолюциями. Он, как всегда, верил в силу слова, в справедливость и в глас народа, подобный гласу Божьему.
— Повесить предателей народа, расстрелять, взорвать динамитом! — яростно кричали вооруженные матросы. — Продажные душонки, прислужники капитала!
Нисан схватил Щиньского за рукав его военного френча.
— Слушайте! — сказал он. — Пожинайте то, что посеяли!
Щиньский стал что-то бормотать. Нисан прервал его.
— Это я контрреволюционер, прислужник капитала, продажная душонка? Скажи!
Щиньский опустил голову. Он не смел смотреть Нисану в глаза.
Большой Таврический дворец напоминал казарму, а не парламент. Повсюду кишели солдаты с винтовками, с ручными гранатами. Блестели холодной яростью стальные штыки. Галерея была полна матросов с татуировками.
— Надо перестрелять это гнездо контрреволюции, всех положить из пулемета! — орали они хриплыми голосами, держа пальцы на спусковых крючках маузеров и наганов и готовясь нажать на них при первой возможности.
Депутаты были бледны, встревожены. Гнев солдат и матросов наполнял большой зал, витал над их головами, как ядовитый газ, который мог взорваться каждую минуту. Корреспонденты зарубежных газет сидели напуганные. Подобное открытие парламента они видели впервые.
Первыми выступали сподвижники низкорослого человека. Они предложили Учредительному собранию публично признать их власть и принять все введенные ими законы.
Депутаты от других партий начали возмущаться.
— Прочь! Долой диктаторов! — раздались голоса.
— Не Учредительное собрание должно подчиняться вам, а вы — Учредительному собранию, воле народа!
Тогда один из соратников низкорослого человека вынул готовую резолюцию, которую заблаговременно написал большевистский вождь, и предложил ее вниманию собравшихся.
— «Поскольку Учредительное собрание является устаревшей формой народного представительства, — читал большевик надрывным голосом, — формой, не соответствующей настоящему моменту, когда революция находится в опасности и народу грозит уничтожение со стороны его врага, буржуазии, Учредительное собрание объявляется закрытым».
Депутаты стали кричать, протестовать, стучать по столам, махать руками. Но в это мгновение лодзинец Павел Щиньский, высокий человек с русой бородкой, одетый в военный френч, подал сигнал вооруженным солдатам и матросам, чтобы они принимались за дело. С винтовками, с маузерами и наганами в руках те начали очищать зал, выгоняя народных избранников.
Пришибленные, растерянные, депутаты шли по темным петроградским улицам. Трамваи не ходили, фонари были разбиты, ворота заколочены. На пустых улицах встречались только войска. С винтовками, с ручными гранатами, с пулеметами и пулеметными лентами на груди, солдаты и матросы слонялись по Невскому проспекту, курили, смеялись и сквернословили.
На площадях, около памятников стояли пушки, направив свои жерла вверх. Полевые кухни варили еду, рассыпая вокруг себя искры. Какой-то матрос играл на гармонике веселого камаринского. Ссутулившись, Нисан шел по петроградским улицам подавленный и униженный случившимся.
Как он ждал этого часа, первого заседания народных избранников свободной России! Сколько он боролся за это, сколько тюрем прошел, сколько страданий вынес! Он дожил до этого события. Он даже сам был избран народом в Учредительное собрание. И вот его прогнали, вытолкали оружием и проклятиями. И кто? Свои же солдаты и матросы, свои же товарищи-революционеры. Он чувствовал себя таким же раздавленным, как в тот май в Лодзи, когда польские рабочие учинили погром в Балуте и расправились с еврейскими ткачами.
Усталый, надломленный, упавший духом, он бросился на узкую койку в своей бедной комнатенке, уткнулся головой в подушку и заплакал, зарыдал над праздником, до которого он дожил, но с которого его вышвырнули.
На улице в ночи не переставали трещать винтовочные выстрелы.
Между польскими легионерами, которых комендант Мартин Кучиньский, вождь боевой организации Польской социалистической партии, направил в Лодзь, чтобы вербовать молодежь в ее ряды, и размещенными в городе немецкими солдатами постоянно возникали ссоры и конфликты.
Они, немецкие солдаты, с самого начала войны не любили своих австрийских союзников. Во-первых, они не всегда могли с ними договориться. В австрийских войсках служили представители самых разных народов: венгры, чехи, поляки, евреи, русины, боснийцы, румыны, цыгане. Многие из них по-немецки не понимали ни слова, если не считать военных команд. Немецких солдат это раздражало. Они не могли поболтать со своими союзниками за кружкой пива и сигарой. Некоторые солдаты австрийской армии вообще ненавидели немцев и, напившись, открыто проявляли свою неприязнь к ним. Немцы этого не выносили. Привыкнув у себя на родине к идее единой Германии, к единому языку, одинаковым обычаям, они с пренебрежением смотрели на австрийских немцев, не сумевших подмять под себя подвластные им народы и превратить их всех в германцев.
— Эй ты, киче, чичи, пичи! — передразнивали они австрийских солдат, разговаривавших на своих языках.
Кроме того, австрийцы были плохими воинами. Они то и дело проигрывали русским, и им, немцам, приходилось их выручать, прогонять врага с их земли. Из-за этого они были злы на австрияков, солдат с обмотками на ногах и в маленьких фуражках, увешанных патриотическими значками.
Германские офицеры смотрели на австрийских сверху вниз. Австрийские офицеры далеко не всегда происходили из высших кругов. Среди них можно было встретить всякий плебс, разных черноволосых иноязычных типов, сыновей лавочников и крестьян, даже галицийских евреев из Тернополя и Коломыи. На балу в офицерском собрании никогда нельзя было знать, на кого наткнешься, с кем встретишься. И они, русоволосые светлоглазые немецкие офицеры, заносчивые помещики и юнкера, избегали встреч с австрийскими коллегами. На службе, в тех местах, где их войска стояли вместе, немцы помыкали своими союзниками. Они захватывали лучшие квартиры, оставляя те, что похуже, австрийцам. Они занимали высшие должности, издавали приказы, забирали себе всю власть, что весьма раздражало австрийцев.
Немецкие солдаты часто притворялись, что не замечают австрийского офицера, проходя мимо него, и не отдавали ему честь, но если и отдавали, то делали это не так основательно и по-солдатски молодцевато, как при встрече с собственными офицерами, а на скорую руку, лишь бы отделаться. Австрийские офицеры обижались на развязное поведение солдат союзников и нередко подавали на них жалобы в комендатуру. Немецкие офицеры отчитывали своих солдат за небрежность, но те видели, что они делают это просто по обязанности и что на самом деле они очень довольны их плохим отношением к недотепам союзникам. И немецкие солдаты продолжали небрежно отдавать честь австрийским офицерам, а то и вовсе игнорировать их.
После последних поражений, которые снова потерпели австрийцы во время русского весеннего наступления, когда немцам опять пришлось им помогать, враждебность немцев по отношению к союзникам усилилась. Германские солдаты даже придумали похабную расшифровку аббревиатуры К. и К.[171], означавшей «императорская и королевская Австрия». От этой расшифровки австрийцы буквально подскакивали на месте, чувствуя гнев и обиду.
С еще большим презрением немцы смотрели на складчатые фуражки польских легионов, которые создавались в Австрии, но вели себя как самостоятельная армия, с собственным штабом, командами и формой. Немцы не выносили ни их языка, ни их фуражек, похожих на гражданские головные уборы, ни их песен на улицах. Как только легионеры принимались распевать свои польские песни, ландштурмеры перекрикивали их немецкой песней о славянах: