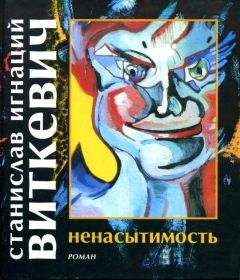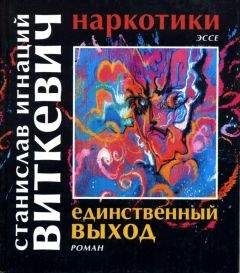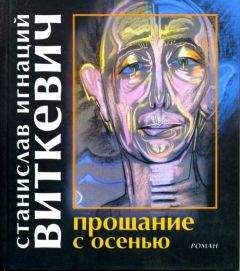— Господин маршал Ванг, слишком много чести, чтобы отказаться: «Sliszkom mnogo czesti, cztob otkazatsia», — как сказал секундантам один наш офицер в 1831 году, когда его вызвал на дуэль Великий Князь. Да ничем бы это и не помогло. Я принимаю комплименты Вашей Милости (Votre Eminence) с глубоким пониманием законов истории. Может, ты и прав, маршал Ванг, я опасная бестия, наделенная таинственными рефлексами, — таинственными и для меня самого. Разве сегодняшнее утро — тому не доказательство? Если б не этот мой последний вольт, ты потерял бы три четверти стянутых сюда войск. В конце концов вы победили бы числом. А плана моего вам не узнать, потому что он — вот здесь. — (Тут он стукнул себя по лбу, имитируя звук широко известным способом: свинским полухрюком где-то между носом и горлом. — Китайцы оторопели.) — Но ни единой бумажки я не писал. Из меня вышел бы неплохой начальник штаба в вашей войне с Германией — не в обиду вам будь сказано, генерал Пинг, — добавил он, кланяясь желтой, невзрачной молодой мумийке. — Потому что немецких коммунистов без боя вам не взять. Нас погубило отсутствие внутренней идеи — идея-то у нас была, но только навязанная извне. Ну а вдобавок там не удалось бы вывести такой экземпляр, как я. Но даже если бы теперь, мандарин Ванг, ты даровал мне жизнь, я бы этого дара не принял и влепил бы себе карамельку в лоб вот из этого браунинга, который получен от царя Кирилла и который я передаю в твои руки. — Он положил маленький черный пистолетик перед прибором китайского сановника и сел. Никто больше об этом не говорил, хотя тема была неплохая. («Каждый что-то стыдливо скрывал под своими бровями», — добавил бы поэт.) Говорили о механизации без утраты культуры, о механизации самой по себе, о механизации самих процессов механизации и о том, что будет, когда будет все механизировано. Бедный гениальный смертник всех поразил «язвительностью» и остроумием своих замечаний. А когда крысиные хвосты в соусе из тушенных под помидорами клопов были съедены и эта гадость была запита отличной рисовой водкой с розовой водой, мандарин Ванг встал и сказал:
— Теперь пора. — Коцмолухович попросил его на пару слов в сторону:
— Единственная моя просьба, господин маршал, — полчаса разговора с моей женой наедине. Кроме того, я должен написать два письма — первой жене и дочери.
— Ну разумеется, генерал, — дружелюбно произнес Ванг. — Ха — так у вас есть еще и первая жена? — заинтересовался он. — Это замечательно, это замечательно. Я не знал, что дочка от первой... Но это ни в чем, того, не меняет наших планов?
— Да ни чуточки. Где?
— Там, в павильоне. — Он по-свойски похлопал Коцмолуховича по спине. Этот необычный для китайца жест растрогал всех почти до слез. Но офицеры квартирмейстера не смели к нему подойти. Возникла какая-то непреодолимая дистанция или таинственная стена — ни с места. Он тоже к ним не хотел. Что тут болтать в такую минуту. Держаться надо — вот и все. Другое дело — Перси, которая как раз беседовала с Зипом и начальником китайского штаба о только что пережитых кулинарных впечатлениях. — Вы крепкий парень, генерал, — продолжал маршал. — Жаль, что вы не родились китайцем. Если б вы получили другое воспитание, вы бы стали действительно великим человеком. Но так, как есть, — я вынужден. Ничего не поделаешь.
— Куда?
— Я сам вас провожу.
— Пойдем, Перси, пофлиртовать у тебя будет время вечером. — Они прошли дальше, в маленький павильон в стиле рококо.
— У вас полчаса времени, — сочувственно произнес Ванг и спокойно вышел. У двери выставили караул: поручик, какой-то бывший монгольский князь, с саблей наголо. Под окнами, сходясь и расходясь, прогуливались два штыка. — А вы, господин поручик, — обратился Ванг к Зипу, — останетесь тут — (он указал р у к о й на кресло перед дверью), — а через полчаса постучитесь в эту дверь. — Время шло медленно. Где-то часы били три пополудни. В широком коридоре было темновато. Зип на секунду вздремнул. Очнулся, глянул на наручные часы. Три двадцать. Уже пора, о Господи, пора! Постучал — тишина. Второй раз — громче, третий — ничего. Вошел. В нос ударил какой-то странный запах, а потом он увидел страшную вещь. Какая-то тарелочка, какие-то кровавые полосы на чем-то и рядом — брошенный хлыст, тот, с бриллиантовым набалдашником, с которым (хлыстом) никогда не расставалась Перси с тех пор, как прибыла на фронт. И она — плачущая — у окна. Весь мир у Зипа в черепушке пустился отплясывать дикую качучу. Из последних сил Зип овладел собой. Секунду в нем творилось что-то непонятное, но прошло. Уф — как хорошо, что прошло.
— Пора, господин генерал, — сказал он тихо, поистине зловеще.
Квартирмейстер вскочил, спеша поправить туалет. Перси двинулась от окна к Зипу, вытянув руки. В одной из них (левой) у нее был смятый платочек. Зип торопливо отступил и прошел в столовую. Там было пусто. Он налил большой бокал рисовой водки и выглушил до дна, закусив каким-то бутербродом черт знает с чем. Солнце было уже оранжевое.
Через минуту все вышли на восхитительный газон перед усадьбой, где еще лежали тела и головы казненных перед полуднем.
— Офицеры, которые допустили тактические ошибки при подготовке несостоявшегося сражения с Вашим Превосходительством, — пояснил обходительный Ванг. Коцмолухович был бледен, но маска его оставалась непроницаемой. Он был уже по ту сторону. А здесь только труп его делал вид, будто его ничего не интересует. (В этом и состоит отвага в такие минуты: труп притворяется — а дух уже совсем не здесь.) Он отдал Зипу письма и проговорил:
— Бывай здоров, Зипок. — После чего помахал всем рукой и добавил: — Не прощаюсь, и так скоро увидимся. «Я, выбирая судьбу мою, выбрал безумие», — процитировал он стихотворение Мицинского. И с этой минуты стал официален и скован. Он отсалютовал — все подняли руки к фуражкам, — бросил наземь фуражку 1-го кавалерийского полка, встал на колени и стал смотреть на длинные предвечерние, изумрудно-голубые тени, которые группа медных деревьев отбрасывала на залитый солнцем газон. Приблизился палач — тот же самый. Неизреченной прелестью окутался весь мир. Никогда еще ни один закат не был для него полон такого дьявольского очарования — особенно на фоне того, что в последний раз (ах — это сознание последнего раза! — сколько же в нем было убийственной сладости!) он вытворял с любовницей. Уже никогда ни одно мгновение не будет выше этого — так чего жалеть о жизни? Этот октябрьский вечер — и есть вершина.
— Я готов, — молвил он твердо. У друзей были слезы на глазах, но они держались. Стена между ними и Вождем рухнула. В эту минуту мир и для них стал невероятно прекрасен. Повинуясь знаку, поданному Вангом («Il était impassible, comme une statue de Boudda»[233], — всегда потом говорила Перси, рассказывая об этой сцене), палач занес прямой меч, и клинок сверкнул на солнце. Виуууу! И Зипок увидел то же самое, что четыре часа назад они видели все — вместе с генеральным квартирмейстером: был рассечен какой-то гигантский зельц, который тут же залила кровь, хлынувшая из артерии последнего индивидуалиста. Голова покатилась. А Вождь в момент усекновения ощутил только холодок в затылке, и когда голова качнулась, мир в его глазах перевернулся вверх тормашками, как земля из окна аэроплана на крутом вираже. Потом мутная тьма заволокла голову, уже лежащую на траве. В этой голове завершило свое бытие его «я», уже независимое от корпуса в генеральском мундире, корпуса, который продолжал стоять на коленях и не падал. (Это длилось каких-то секунд пятнадцать.) Перси не знала, куда кинуться — то ли к голове, то ли к корпусу, — должна же она была к чему-то кинуться. Она выбрала первое, припомнив Саломею, королеву Маргариту и Матильду де ля Моль из Стендаля. (Следующий персонаж в такой ситуации припомнит еще и ее — Перси Звержонтковскую: к тому времени она будет так же знаменита, как и те.) И подняв с травы яростную, непреклонную башку Коцмолуховича, блюющую через шею кровью и спинным мозгом, она, осторожно нагнувшись вперед, поцеловала его прямо в губы, еще пахнувшие ею самой. Ох — как неприлично! Из губ потекла кровь, а Звержонтковская обратила свой кровавый рот (цвета, названного впоследствии «rouge Kotzmoloukhowitch»[234]) к Зипке и поцеловала его тоже. Потом бросилась к шокированным китайцам и друзьям Вождя. Она билась в истерическом припадке, пришлось ее связать. Зип с омерзением утирался, обтирался и никак не мог досыта оттереться. В ту ночь (признавшись, что она никогда не была женой Вождя) Перси стала любовницей автоматизированного Зипа, который «познал ее без всякой абсолютной радости», как Цимиш — Базилиссу Теофану. А потом она любила еще и начальника китайского штаба, хотя от него воняло трупом, и прочих «чинков», несмотря на то что от них смердело так же, как от него, — а может, именно потому — как знать. Все позволял ей безучастный ко всему Зипулька.