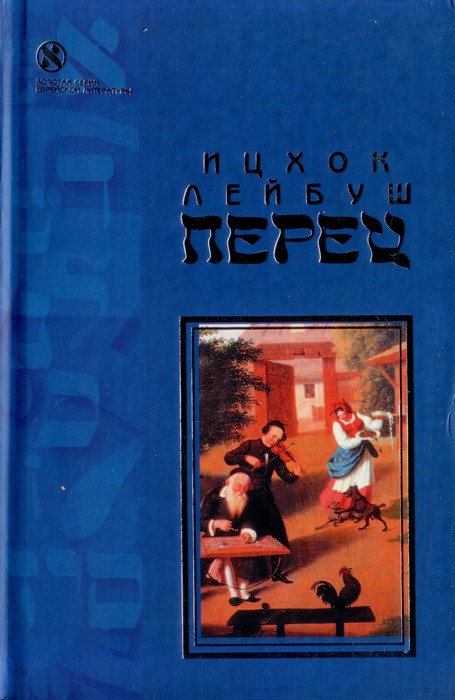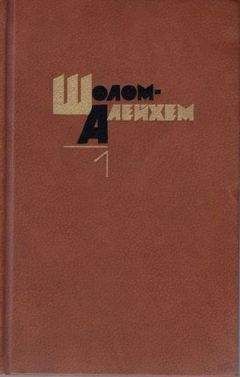тихой голубке.
По голубому воздушному морю пусть на мощных крыльях орел приплывет — она встретит его с радостью!
Своими орлиными когтями пусть растерзает он молодое сердце ее, орлиным клювом пусть высосет ее горячую молодую кровь — пусть утолит свою жажду.
А то, что останется, пусть бросит, куда пожелает…
* * *
Отец спрашивает озабоченно:
— Что ты, дочь моя, так бледна?
С беспокойством заглядывает он глубоко в глаза мои:
— Что горят они так дико?
Мать пристает ко мне:
— Дочь моя, ты ночью плакала во сне? Мокра была к утру подушка твоя — какие видела ты сны?
А из дому выбегу, — меня подруги встречают, окружают, прыгают вокруг меня, пробуравливают своими взглядами:
— Что случилось с тобой, Гомеле? Почему так жжет твое дыхание?
Легче скрыть запах духов, чем расцветшее сердце в груди.
* * *
Если когда-нибудь у меня будет кроткая, милая дочка, как у моей мамы, единственная, я буду сажать ее иногда к себе на колени и, тихо гладя ее золотые локоны и глубоко заглядывая в ее голубые глаза, буду нашептывать ей добрые слова, сердечные назидательные речи:
— Хочешь, дочь моя, идти гулять, и есть у тебя с кем — иди!
Но иди днем, в прекрасный яркий полдень, когда сияет солнце!..
Пусть осыплет оно головку твою ярким золотом; тебе нечего стыдиться, бояться его: солнце — верно и чисто!
Но берегись, дочь моя, чар тихих летних ночей… тонкой дрожаще-светлой, серебряной сети, что протягивается в воздухе тихом!..
И чародейка тогда луна, — опасны ее матово-серебряные лучи… Сладок свет ее, и пьется он, как прохладное душистое вино, и опьяняет…
Вдруг свежие розы расцветают в груди твоей, и дыхание твое становится душистым.
Вдруг хаос светлых звезд начинает плясать в мозгу твоем и лучиться из глаз твоих…
И голова тяжелеет и ищет плеча для опоры, и уста с устами встречаются — не оторвать!
* * *
Я должна быть настороже перед самой собою, стеречь себя каждую минуту, каждую секунду.
Я должна удерживать ноги, — им хочется бежать в далекий мир.
Я должна крепко держать свои руки вдоль платья, — им хочется хватать звезды с неба и бросать их в мир.
И губы свои я должна до крови закусить, — им хочется возвестить миру великую весть.
И я должна смотреть за занавесками на глубоко-голубых окошечках моих, — в них зарницы вспыхивают… Вечный праздник в сердце моем!
Мама, когда ты была невестой папы, что говорил он тебе с глазу на глаз, гуляя с тобой?
Прекрасна ты, мама, я знаю, была; царицей выглядишь ты теперь, а ведь царевна таит в себе еще больше чар!
Золотом сверкает день твоего лета; как же цвело утро твоей весны?!
Я вижу ведь, как он глядит на тебя еще теперь, думая, что я ничего не замечаю.
Но тогда, тогда что говорил он тебе?
Что говорил он тебе в сладкие тихие летние ночи, когда луна чарует, и серебряно-светлая сеть дрожит в глубокой голубой тиши?
Не говорил ли он тебе, что не луна и звезды светят ему на пути его, а твои глубоко-голубые глаза?
Когда над дрожащей серебряной сетью проносился запах цветов, не говорил ли он тебе, что то пахнут не розы и лилии, а чистая душа твоя?
А по вечерам, когда сладкая, тихая молитва гнезд разливается в гущах замечтавшихся деревьев, не шептал ли он тебе, что слаще, святее и чище звучит единое слово твое?
* * *
С горячими устами я легла, и проснулась в холодном поту.
Меж разорванных клочьев туч, над голыми скалами и бушующими морями носил меня орел средь бурь и ветров.
Сама бескрылая, я соскользнула с крыльев его.
Я падаю… Все ниже и ниже несет меня ветер и бросает и кидает, пока не повисаю я, как Авессалом, волосами на ветви древесной, что над водою висит.
Вверху, меж разорванных туч, парят орлы.
— Спасите, ваш товарищ потерял меня!
Не слышат они и продолжают свой путь.
А внизу течет полувысохшая речка. Время от времени выплывает бледная рыба с круглыми голодными глазами и раскрывает пасть:
— Когда спадет она!
* * *
Я лежу с открытыми глазами и жду первого луча новой зари. Я тоскую по нем — он прогонит тени с сердца моего.
Смотрю в окно и жду знака от нарождающегося солнца — пред ним убегут мои страшные сны.
Первый поцелуй, который тихое небо даст земле, окутанной туманом и ужасом, освободит мою душу от страха.
Из семян, что Божья рука раскидает по усталой земле, расцветет для нее новый день, а для меня — новая жизнь.
Воздух дрожит, сейчас пронесется весть:
— Не страшись, обездоленная земля! Освободитель твой, твой жених, грядет к тебе из-под венца; глаза его испускают лучи и гонят пред собой злых духов ночи, — и ужасы исчезнут все!
И в жажде дня, лежу я тихо и плачу.
* * *
Тихо плакала я, и лишь ухо матери услыхало вздохи мои, — я слышу шаги обнаженных ног ее.
Занавески отгибаются. Вот стоит она, образ милости и сострадания, и своим сердечным взглядом обнимает свое до смерти перепуганное дитя.
Тихими шагами босых ног своих подходит она к кровати моей, садится возле меня, кладет свою руку под шею мою и притягивает мою горячую голову к себе на колени.
— Стоит ли он этого, дочь моя?.. Кто он?
* * *
Он — герой, у него голос покорителя мира И он говорит, что это я его голос налила мощью и сочностью, как благословенное солнце наливает кисть виноградную… я — своими трепетными устами…
Миры может он кидать в воздух, — а силу, говорит он, дала ему я — я, которая так слаба, так слаба.
У него, поведал он мне, были уже потухшие глаза; а я вновь зажгла в них огонь, — и они светят, как звезды на небе. А ведь я, мама, часто не вижу своего собственного пути.
И пустыней было уж сердце его. Я посадила в нем новые цветы, и дыхание его пахнет розами с горних вершин. А я, мама, вяну от тоски, как последняя былинка в долине.
Я ему вновь открыла глаза, и он видит жемчужины, что еще скрыто лежат на дне глубочайших морей.
И он чует цветы, которых ни один ангел не будил еще от глубочайшего сна в скрытом лоне земли. И он внемлет песнь, песнь грядущих веков, аллилуйя времен, что плывут еще в тумане бесформенном под Престолом Всевышнего, на что