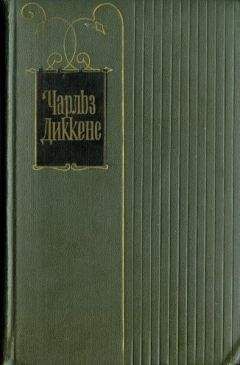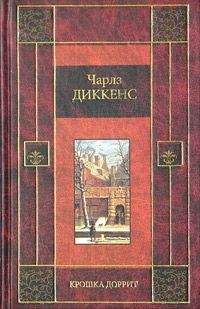— Я и вздремнул, — отозвался Двойник.
— Третий час утра, — вполголоса произнес Иеремия. — Где твоя шляпа? Где твое пальто? Где шкатулка?
— Все здесь, — сказал Двойник, с сонной медлительностью укутывая шарфом горло. — Постой, постой. Ну вот, теперь помоги мне надеть пальто — нет, сперва тот рукав, потом этот. Эх, годы, годы! — Мистер Флинтвинч энергичным усилием втиснул его в пальто. — А ты помнишь, что обещал мне еще стаканчик, после того как я вздремну?
— На! Пей и убирайся, — чуть было не сказал: пей и подавись! — Говоря это, Иеремия достал знакомую бутылку портвейна и налил вина в стакан.
— Ее портвейн, надо думать? — заметил Двойник, пробуя вино на вкус с досужим видом человека, которому некуда торопиться. — Так за ее здоровье!
Он отпил глоток.
— За твое здоровье! Еще глоток.
— За его здоровье! Третий глоток.
— И за всю округу святого Павла! — Произнеся этот старинный тост, он допил свой стакан и поставил его на стол, после чего взялся за шкатулку. Это был плоский железный ящик примерно в два квадратных фута величиной, который без особого труда можно было унести под мышкой. Иеремия ревнивым взглядом следил за всеми движениями Двойника, подергал шкатулку, желая проверить, достаточно ли крепко тот ее держит, долго заклинал его соблюдать всяческую осторожность и, наконец, на цыпочках вышел, чтобы отворить дверь и выпустить его. Эффери, в предвидении этого, успела отбежать к лестнице. Дальше все происходило совершенно как наяву, настолько, что она даже услышала скрип отворяющейся двери, почувствовала ночную прохладу, увидела звезды на небе.
Но тут наступило самое удивительное в этом странном сие. Страх перед мужем словно парализовал миссис Флинтвинч, и вместо того чтобы поспешить назад в свою комнату (на это вполне хватило бы времени, покуда он возился с дверными засовами), она застыла неподвижно на ступеньке, на которой стояла. А потому, когда Иеремия, со свечой в руке, стал подниматься по лестнице наверх, он сразу же натолкнулся на нее. Его лицо выразило удивление, но он не произнес ни слова. Устремив на нее пристальный взгляд, он шаг за шагом продолжал подвигаться вперед; а она, завороженная силой этого взгляда, шаг за шагом пятилась назад. Таким образом, он, наступая, а она, отступая перед ним, дошли они до своей супружеской спальни. И не успела дверь затвориться за ними, как мистер Флинтвинч схватил жену за горло и принялся трясти ее так, что вся кровь бросилась ей в голову.
— Эффери, старуха! Эй, Эффери! Что тебе примерещилось? Да очнись же наконец! Что с тобой?
— Со… со мной, Иеремия? — прохрипела миссис Флинтвинч, выпучив глаза.
— Эффери, старуха, — эй, Эффери! Что это ты, милая, вздумала вставать во сне? Я сам нечаянно уснул внизу, а потом прихожу сюда, чтобы лечь в постель, и застаю тебя на ногах, в капоте, мечущуюся в кошмаре. Эффери, старуха, — продолжал мистер Флинтвинч с ласковой усмешечкой на своем выразительном лице, — если еще раз повторится с тобой нечто подобное, придется заключить, что ты нуждаешься в лечении. И я тебя полечу, голубушка моя — уж я тебя полечу!
Миссис Флинтвинч поблагодарила его и тихонько легла в постель.
В понедельник утром, едва на городских часах пробило девять, мистер Иеремия Флинтвинч, с обычным своим видом срезанного с веревки удавленника, подкатил кресло миссис Кленнэм к высокому бюро, стоявшему у стены. Дождавшись, пока она его отперла, откинула крышку и расположилась перед ним поудобнее, Иеремия удалился — быть может, пошел повеситься более прочно, — и в комнату вошел Артур Кленнэм.
— Как вы себя сегодня чувствуете, матушка? Лучше вам?
Она покачала головой с тем же оттенком зловещего удовлетворения, с которым накануне говорила о погоде.
— Мне никогда уже не будет лучше, Артур. К счастью, я это знаю и умею мириться с этим.
Когда она сидела так перед своим высоким бюро, положив обе руки на откинутую крышку, казалось, будто она играет, на беззвучном церковном органе. Эта мысль не рад приходила на ум ее сыну; подумал он об этом и сейчас, садясь в кресло, стоявшее рядом.
Миссис Кленнэм выдвинула один ящик, потом другой; достала какие-то документы, просмотрела их и спрятала снова. Ни разу на ее суровом лице не мелькнуло просвета, который мог бы служить путеводной нитью тому, кто пожелал бы проникнуть в темный лабиринт ее раздумий.
— Мне хотелось бы побеседовать с вами о наших делах, матушка. Угодно ли вам вести деловой разговор?
— Угодно ли мне, Артур? Скорей следовало бы тебя спросить об этом. Прошло уже больше года с тех пор, как умер твой отец. Все это время я к твоим услугам и жду, когда ты соблаговолишь сюда пожаловать.
— Я не мог уехать, пока не уладил и не привел в порядок некоторые дела. А потом я предпринял небольшое путешествие, чтобы отдохнуть и рассеяться.
Она повернула к нему лицо, словно не дослышала или не поняла.
— Отдохнуть и рассеяться?
Она оглянулась по сторонам, и по движению ее губ можно было догадаться, что она повторяет про себя эти слова, будто, призывая комнату подтвердить, как мало было доступно и то и другое в ее сумрачных стенах.
— А кроме того, матушка, ведь вы по завещанию единственная душеприказчица, и поскольку все управление имуществом находится в ваших руках, мне почти ничего, или вовсе ничего не оставалось делать, как только ждать, когда вы распорядитесь всем по своему желанию и усмотрению.
— Счета все в порядке, — ответила миссис Кленнэм. — Вот они здесь. Оправдательные документы налицо и проверены должным образом. Можешь ознакомиться с ними, когда захочешь — хотя бы сию минуту.
— Раз вы говорите, что все в порядке, матушка, мне этого совершенно достаточно. А теперь, угодно ли вам меня выслушать?
— Говори, — сказала она обычным своим ледяным тоном.
— Матушка, за последнее время наша фирма из года в год уменьшала свои обороты, и дела ее все больше н больше приходили в упадок. Мы не слишком много доверия оказывали другим и не слишком пользовались доверием сами. Мы не приобрели постоянных клиентов; мы никогда не старались идти в ногу со временем и в конце концов крайне отстали. Мне незачем говорить вам об этом подробнее, матушка. Вам и без меня все известно.
— Да, я понимаю тебя, — отозвалась она несколько мягче.
— Даже этот старый дом, где мы с вами сидим сейчас, — продолжал ее сын, — может служить примером, подтверждающим мои слова. Когда-то, при моем отце, и еще раньше, при его дяде, это было место, где делались дела — центр и средоточие деятельности фирмы. Но теперь он стоит в этом квартале устарелым и бесполезным пережитком, его существование уже никому не нужно и ничем не оправдано. Все наши торговые операции давным-давно ведутся через посредство комиссионной конторы Ровингемов; правда, вы, в качестве управляющей состоянием моего отца, постоянно держите их под своим бдительным и неутомимым надзором, но разве вы не могли бы точно так же плодотворно служить нашим деловым интересам, живя в другом месте?
— Так, значит, Артур, — произнесла она, оставляя его прямой вопрос без ответа, — значит, по-твоему, этот дом стоит здесь без пользы, если он служит пристанищем твоей недужной и страждущей — недужной в воздаяние за грехи и страждущей по заслугам — матери?
— Я имел в виду лишь деловую пользу.
— Но к чему ты клонишь?
— Сейчас все объясню.
— Я чувствую, — сказала она, вперив в него пристальный взгляд. — я чувствую, о чем пойдет речь. Но господь даст мне силы безропотно стерпеть испытание, как бы тяжко оно ни было. За грехи свои я достойна великой кары и готова понести ее.
— Матушка, мне грустно слышать от вас такие слова, хоть я и опасался, что вы…
— Ты знал это. Знал, потому что знаешь меня, — перебила она.
Сын замолк на мгновение. Он высек огонь из камня и сам был поражен этим.
— Что ж, продолжай, — сказала она, возвращаясь к прежнему тону. — Говори, что хотел, я слушаю.
— Вы уже догадались, матушка, что я принял для себя решение выйти из дела. Решение это бесповоротно. Не беру на себя смелости давать вам советы; вы, как я понимаю, намерены вести дело дальше. Я знаю, что я обманул ваши надежды; но если б я хоть сколько-нибудь мог рассчитывать на свое влияние, я постарался бы убедить вас не слишком строго судить меня за это и напомнил бы вам, что я прожил добрую половину человеческого века — и ни разу еще не пытался выйти из вашей воли. Не стану утверждать, что сумел подчиниться душой и разумом тем правилам, в которых вы меня воспитали: не стану утверждать, что сорок лет моей жизни были прожиты с пользой и удовольствием для меня и для кого-нибудь другого; но я всегда был покорным сыном и только прошу теперь, чтобы вы не забывали этого.