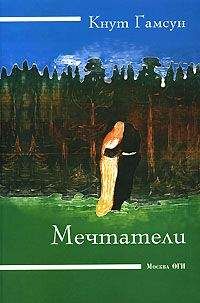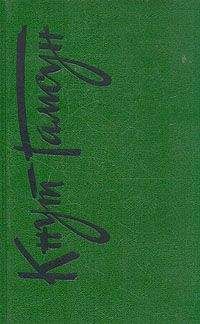И он взял Эноха под руку. Часть прибывших подошли к месту пожара и начали рыть канаву. Левион всё ещё стоял, задыхаясь, на том же месте. Он наступил ногой на каменную плиту, лежащую у подножия скалы. «Конечно, он здесь ничего не спрятал, а, наверное, всё лжёт», — подумал он, но приподнял плиту. Порыв немного в земле, он увидал платок, в нём был пакет. Платок принадлежал Эноху, он прежде повязывал им уши.
Левион развязал платок. В нём были деньги, много денег банковыми билетами, а среди них большой белый документ. Левиона разобрало любопытство. «Это, наверное, украденные деньги», — решил он, развёртывая бумагу, и начал разбирать её по складам. В это время, Энох замечает его и хрипло вскрикивает, он отрывается от пастора и спешит к Левиону с ножом в руке.
— Энох, Энох! — кричит пастор и старается догнать его.
— Вот он вор! — кричит им Левион.
«Эноха так поразил пожар, что он теряет рассудок», — думает пастор.
— Спрячь нож, — кричит он ему.
Левион продолжает:
— Вот тот, кто обокрал Макка.
— Что ты говоришь? — воскликнул пастор, не понимая.
Энох бросается на своего противника и хочет завладеть пакетом.
— Я отдам его господину пастору, — восклицает Левион. — Пускай господин пастор узнает, к какому разряду людей принадлежит его помощник.
Энох прислоняется к дереву, лицо его помертвело. Пастор не понимает, что означают банковые билеты, платок и документ.
— Я нашёл всё это вон там, — объясняет Левион и дрожит всем телом. Он спрятал это под каменной плитой. В этой бумаге стоит имя Макка.
Пастор прочёл. Он совсем растерялся, посмотрел на Эноха и сказал:
— Это ведь свидетельство Макка о страховании жизни, которое он потерял.
— А вот и деньги, которые он тоже потерял, — сказал Левион.
Энох собрался с духом.
— В таком случае ты сам положил их сюда, — заметил он.
Треск горящего леса всё приближался, всё круг становилось всё жарче и жарче, но все трое не трогались с места.
— Я ничего об этом не знаю, наверное, мне всё это подстроил Левион.
— Здесь двести талеров, — возразил Левион. — А разве у меня когда-нибудь было двести талеров? И платок этот разве не твой? Разве ты не повязывал им уши?
— Да, в самом деле, разве ты им не повязывался? — спрашивает пастор.
Энох молчит. Пастор перелистал бумаги.
— Здесь нет двухсот талеров, — сказал он.
— Энох, конечно, уже кое-что растратил, — отвечал Левион.
Энох стоял, тяжело дыша, но всё-таки возразил:
— Я ничего не знаю. Но погоди, Левион, я тебе этого никогда не забуду.
У пастора зарябило в глазах. Если Энох вор, то телеграфист Роландсен сыграл только комедию с письмом, в котором пастор увещевал его. Но для чего он сделал это?
Жар усиливался, и все трое направились к морю, пламя преследовало их, они должны были сесть в лодку и отчалить от берега,
— Во всяком случае, это свидетельство Макка, — сказал пастор. — Надо об этом заявить. Греби домой, Левион.
Энох ни к чему не был нужен, он сидел и упорно смотрел перед собой.
— Да, мы заявим об этом, я того же мнения.
— Да? — произнёс пастор и невольно закрыл глаза, содрогаясь от всех этих событий.
Жадный Энох сделал глупость. Он бережно спрятал свидетельство, смысл которого он не понимал. На нём было много штемпелей. В нём говорилось о большой сумме. Может быть, думал он, ему удастся через некоторое время уехать и предъявить эту бумагу, он был не на столько богат, чтобы пренебречь ею.
Пастор обернулся и посмотрел на пожар. В лесу работа кипела, деревья падали, и уже виднелась широкая тёмная канава.
Очевидно, уже подоспели люди.
— Пожар сам собой прекратится, — сказал Левион.
— Ты так думаешь?
— Когда он достигнет берёзового леса, он потухнет.
Лодка с тремя мужчинами направлялась глубоко в бухту к дому ленсмана.
Вернувшись вечером домой, пастор прослезился. Его окружала тёмная бездна страшных грехов, и он был подавлен и сильно расстроен; теперь у его жены даже не будет башМакков, в которых она так сильно нуждалась. Большое пожертвование Эноха в пользу церкви Божьей приходилось теперь возвратить, так как деньги оказались крадеными; пастор был опять принуждён терпеть нужду.
Он пошёл наверх, к своей жене. Уже в дверях он почувствовал приступ отчаянья и раздражения. Жена шила. На полу валялась одежда, на кровати вилка и кухонная тряпка вмести с газетами и вязаньем. Одна туфля стояла на столе. На комоде лежала зелёная берёзовая ветка и большой булыжник. Пастор, по старой привычке, начал всё подбирать и приводить в порядок.
— Тебе не зачем это делать, — сказала она. — Я бы и сама убрала туфли, когда кончу шить.
— Но как можешь ты сидеть среди такого хаоса и шить?
Жена почувствовала себя оскорблённой и не отвечала.
— Что означает этот булыжник? — спросил он.
— Он ничего не означает. Я нашла его внизу на штранде8, и он мне очень понравился.
Он взял связку засохшей травы, лежавшей на подзеркальнике, и собрал её в газету.
— Да, но, может быть, она для чего-нибудь предназначается? — спросил он и остановился.
— Нет, она высохла. Это щавель. Я хотела сделать из него салат.
— Он валялся здесь целую неделю, — сказал пастор, — и оставил пятно на политуре.
— Да, вот видишь, никто не должен был бы покупать полированной мебели, она никуда не годится.
Пастор разразился злобным смехом. Жена бросила своё шитьё и встала. Он никогда не оставлял её в покое, а отравлял её существование своей глупостью. И опять началась одна из тех бессмысленных и бесполезных ссор, которые повторялись вот уже четыре года с некоторыми промежутками. Пастор пришёл, чтобы смиренно попросить свою жену отложить покупку башМакков, но чувствовал, что он более не в состоянии исполнить своего намерения, досада разбирала его. И действительно, с тех пор, как уехала йомфру ван Лоос и его жена сама принялась за хозяйство, всё шло в доме пастора как-то по-дурацки.
— И вообще ты могла бы несколько осмотрительнее хозяйничать в кухне, — сказал он.
— Осмотрительнее? Мне кажется, я и без того хозяйничаю очень осмотрительно. Разве дело идёт хуже, чем прежде?
— Вчера я нашёл помойное ведро, полное кушаний.
— Ты бы лучше не совал всюду своего носа, тогда дело шло бы лучше.
— На днях я видел в нём целую кучу молочной каши, оставшейся от обеда.
— Да, служанки так ужасно много её съели, что я не могла больше подать её к столу.
— Я нашёл также большой остаток рисовой каши.
— Да, молоко свернулось. В этом я уже нисколько не виновата.
— А третьего дня в помойном ведре лежало крупное очищенное яйцо.
Жена промолчала. Но она, конечно, сумела бы оправдаться и в этом.
— В сущности, наши обстоятельства не особенно блестящи, — сказал пастор, — и ты знаешь, что мы покупаем яйца. А на днях кошке дали яичное пирожное.
— Оно осталось от обеда. Однако знаешь, ты не совсем в своём уме, скажу я тебе. Тебе бы следовало обратиться к доктору.
— Я сам видел, как ты держала кошку на руках и подносила ей молочник, а служанки смотрят на это и, конечно, смеются над тобой.
— Нисколько они не смеются, а вот ты, кажется, совсем сошёл с ума.
В конце концов, пастор ушёл в свою комнату, и жена могла успокоиться.
Утром за завтраком никто бы не подумал, что жена страдала и была огорчена. Всё горе слетело с неё, и она, слава Богу, казалось, совершенно забыла ссору. Её весёлый, переменчивый нрав помогал ей легко забывать все неприятности. Пастор опять был растроган. Неужели и он не мог принудить себя молчать при этих хозяйственных неурядицах? Новая йомфру, которая должна была приехать, была уже, вероятно, на дороге к северу.
— К сожалению, у тебя теперь не будет башМакков, — сказал он.
— Нет, нет, — только ответила она.
— Я принуждён возвратить пожертвование, полученное от Эноха: он украл эти деньги.
— Что ты говоришь!
— Да, представь себе! Это он произвёл взлом у Макка. Вчера он сознался ленсману.
И пастор рассказал всё.
— В таком случае это сделал не Роландсен.
— Ах, этот бродяга, шалопай!.. Но с башМакками тебе теперь придётся подождать.
— О, что за беда.
Она всегда была такова — добрым ребёнком, готовым на великие жертвы! И никогда пастор не слыхал, чтобы она пожаловалась на свою бедность.
— Право, хорошо, если бы ты могла надеть эти башМакки, — сказал он, умилившись сердцем.
Жена от души рассмеялась.
— Да, а ты мои, ха, ха, ха! — Она толкнула его тарелку так, что она упала и разбилась; холодная котлета, лежащая на ней, упала.
— Подожди, я сейчас принесу тебе другую тарелку, — сказала жена и выбежала.
«Ни слова сожаления об убытке!» — подумал пастор, ни малейшей мысли об этом. А тарелка ведь стоит денег.