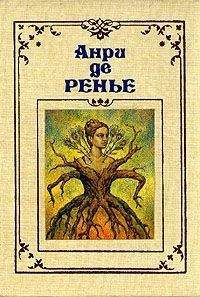Толстый кучер стегнул лошадей; колеса завертелись, оставив на дворе Понт-о-Беля перед г-жою де Галандо, между балагурящим аббатом и смущенным Николаем прекрасную маленькую девочку, белокурую и своенравную; сквозь очки, которые она, заупрямившись, не захотела отдать, малютка смотрела на исчезавшую большую карету, где г-н каноник Дюрье признавался епископу, что эта милая барышня де Мосейль была сущий дьявол во плоти; и это показалось бы ему еще гораздо более вероятным, если бы он услыхал за собою громкий хохот девочки над тремя большими кучами помета, свежего и дымящегося, оставленного на мостовой в некотором расстоянии друг от друга гнедыми лошадьми г-на де ла Гранжера.
Этот первый приезд Жюли в Понт-о-Бель совпал с приготовлениями к отъезду аббата Юберте. Николай казался очень огорченным и проводил время в полной праздности. Его ограниченная и ленивая жизнь поддерживалась в равновесии несколькими опорными точками, и, когда главной из них не стало, он почувствовал словно вывих.
Конечно, г-жа де Галандо оставалась, но она уже давно сложила с себя на аббата заботу заниматься ее сыном. Г-н Юберте добился того, что заинтересовал его своими работами; он открыл перед ним обширную область науки о древностях, и если Николай не погружался в ее глубины, то все же довольно охотно пробегал по ее поверхности. Как только аббат уехал, он прекратил занятия, избегал даже библиотеки и коснел в лености; это несколько обеспокоило г-жу де Галандо, так как она не знала против нее никакого лекарства и даже кое в чем себя упрекала, чему, однако, ее уверенность довольно быстро положила конец. Тем не менее она готова была пожалеть о том, что с такою заботливостью и с такою бдительностью отвращала сына от всех занятий, которые были приличны его возрасту и которым она противилась всею силою своей трусости.
В самом деле, Николай де Галандо не знал ничего из области тех занятий, которыми обычно развлекались местные дворяне, находившие в охоте и верховой езде свое главное удовольствие. Его мать постоянно восставала против охоты. Ей казалось неудобным, чтобы он удалялся от нее на целые дни, поневоле якшаясь при этом с соседнею молодежью. Еще более, чем опасных зачастую случайностей травли, боялась она шумных обедов и ужинов после охоты. Она опасалась, что сын ее будет возвращаться оттуда с головою, полною лая собак, звука рогов, брани доезжачих и вольных разговоров товарищей; а ими он не замедлил бы обзавестись, и они принуждали бы его или убегать из Понт-о-Беля, или вводить туда их ватагу, присутствие которой для г-жи де Галандо было бы отвратительно и которая своим оскорбительным несходством тревожила бы ее жизнь, возвышенную, уединенную и суровую.
Она боялась, что кроткий и скромный Николай приобретет в этих сношениях ту грубость, о которой она хранила прискорбное воспоминание, так как от проявлений этой грубости в близких людях страдала в далекие теперь времена своей юности.
Итак, Николай де Галандо не научился ни владеть оружием, ни ездить верхом, так как мать боялась лошадей из-за постоянных опасностей, представляемых их норовом. Самые кроткие из них подвержены неожиданным капризам, и она часто напоминала Николаю, что благородные лошади, возившие так величественно ее и ее мужа в славной четырехколесной карете, однажды понесли по дороге из Сен-Жан-ла-Виня и после бешеной скачки по полям вывалили их в поле люцерны, причем граф упал ничком, а она, во всем своем убранстве, упала на спину, вверх ногами. Этот пример служил ей доводом, с помощью которого она внушала Николаю осторожность и отвращение к наездничеству и его последствиям.
Отрезав ему таким образом все выходы, она держала его всецело при себе. Она рассуждала при этом, быть может, более последовательно, чем справедливо, потому что необходимы страсти, чтобы питать ими наше одиночество, будь то занятость значительными явлениями внутреннего мира или же пылкий интерес к мелочам, нас окружающим. Но Николай де Галандо имел скорее привычки, чем страсти. Это они были постоянною тканью его мыслей и обычными причинами его действий; их совокупность, упорядоченная и завершенная, составляла для него жизнь ровную и замкнутую, из которой он и не пытался выйти.
Николай де Галандо действительно был свободен от всяких душевных крайностей. Он не испытывал ни одного из тех глухих движений, которые ведут нередко ко внезапным отступлениям, неожиданным и приводящим в замешательство. Даже его религиозность не развивалась порывами и не углублялась, и его мысль о Боге довольствовалась заученными упражнениями, ничего к ним не прибавляя и ничего не отнимая. Его существование казалось очерченным заранее, как тень на старых каменных солнечных часах, на которых его отец некогда любил наблюдать вращение дневных часов.
Все то, что выходило за пределы повседневных обстоятельств, казалось ему пустым и неясным. Собою он занимался умеренно, а другими не занимался вовсе, но если он имел в голове мало образов и мыслей, то в сердце у него были чувства твердые и постоянные. Он любил искренне и сильно свою мать; поэтому, когда наступала пора возвращения Жюли в Понт-о-Бель, он разделял дурное настроение г-жи де Галандо по отношению к этой малютке, и девочка встречала от него так же мало братского привета, как родственного приема от тетки. Но это чувство, надо сказать, длилось недолго, и Николай, кроткий, простой и добрый, не вкладывал в него того постоянства и упорства, какие вносила в свои отношения г-жа де Галандо.
На другой день после приезда Жюли в замок она прогуливалась в садах под наблюдением одной из двух старых служанок г-жи де Галандо. В Понт-о-Беле жили только старые люди; поэтому Жюли была первая юная особа, которую часто видел здесь Николай. Девочка шла печально; слышны были шаги ее бойких ножек на песке сквозь тяжелую поступь древней горничной, которая порой кашляла и тяжело тащилась по дорожке.
Жюли было несколько трудно держаться в тех рамках, в которые хотела ее поставить ее тетка. Конечно, г-жа де Галандо согласилась принять свою племянницу по настояниям г-на де ла Гранжера и из боязни скандала, который ее отказ непременно бы вызвал, но она исполняла этот долг неохотно, и Жюли болезненно ощущала на себе дурное настроение, вызванное этим обязательством. Ее буйная веселость ударялась крыльями о сухость тетки, которая с самого начала сурово укрощала ее.
Да, конечно, далеко было угрюмому пристанищу в Понт-о-Беле до любезного дома во Френее, полного песен и звуков клавесина. Девочка вскоре поняла это.
Г-н и г-жа дю Френей нежно лелеяли сироту, и малютка их обожала. Они отвечали ей безумною любовью и предполагали даже совсем оставить девочку у себя, что стоило им очень надменного письма от г-жи де Галандо с форменным отказом, настолько сильна в душах любовь к противоречию. Содержание письма было таково, что г-н и г-жа дю Френей с тех пор отпускали Жюли без надежды навестить ее хотя бы один раз, пока она оставалась в Понт-о-Беле. Это их печалило до того, что г-н дю Френей целых три дня не дотрагивался ни до скрипки, ни до флейты, а его жена в то же время не открывала клавесина, не взбивала сливок, не толкла сахара.
Перемена была крута для Жюли. Там ей все сходило; здесь ей ничего не спускали. Г-жа де Галандо, высокомерно и не терпя возражений, наложила на нее свое иго. Она сберегла для нее, если можно так выразиться, нечто от своей еще не использованной суровости. Послушание Николая позволяло ей быть уверенной в легкости господства над ним и в бесполезности по отношению к нему какой бы то ни было строгости; поэтому с Жюли она употребляла тот запас жестокости и резкости, которые были до сих пор излишними. Можно было ждать возмущений, но их вовсе не было. Перед этим сильным принуждением ребенок склонялся, отчасти от беззаботности, но более от мягкости и также от легкой приспособляемости к обстоятельствам, свойственной юным существам, — склонялся так, что г-жа де Галандо была обманута в своих ожиданиях. Она не находила в Жюли ничего, что заслуживало бы того нерасположения, которое она к ней питала. Это отсутствие сопротивления не вознаградило ее за то, что она не нашла здесь удовлетворения своим планам.
Эти перемены создали из Жюли двойственное существо, как следствие ее двойственного пребывания во Френее и в Понт-о-Беле. Она приобрела два порядка привычек, которые преобладали в ней попеременно и сделали из нее позже чувственную и легкомысленную Жюли на ужинах маршала де Бонфора и одинокую и степенную г-жу де Портебиз, доживающую жизнь в сельском замке Ба-ле-Прэ.
Это быстрое послушание, если оно и противоречило тайному желанию г-жи де Галандо, заставило ее необыкновенно уважать свою систему воспитания и удовлетворяло, по крайней мере, ее тщеславие. Таким образом, одна покорилась тому, что ее слушают, другая тому, что она слушается. Жюли торопилась выучиться тому, что от нее требовалось, и подчинялась этому добровольно. Только она скучала, и ее розовое личико не озарялось улыбкою, как тогда, когда она пачкала себе щеки свежим вареньем г-жи дю Френей или забавлялась, выпиликивая нестройные звуки на скрипке г-на дю Френея. Она была весьма озабочена новыми благопристойностями, которые надо было ей соблюдать, и это принуждение придавало малютке очаровательную и комическую важность. Еще блуждал в ее глазах остаток веселости, готовый перейти в улыбку, но она тщетно искала в глазах других ему опоры и поддержки, а когда она встречала суровый взор тетки, то ее порыв кончался полуужимкою ее пухлых и розовых губ, очаровательною и в то же время пристыженною, с выражением смущения, разочарования и немного злости, словно решимости, раз что ее улыбки не желают, наслаждаться ею наедине с самою собою.