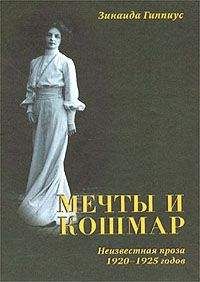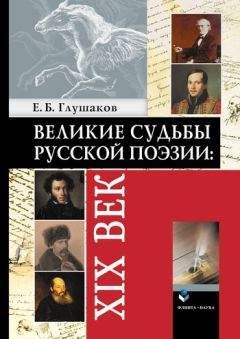Мы с Наташей вскоре расстались, чтобы никогда уже больше не жить в одном городе. Но куда бы ни заносила меня судьба — наша разлука непременно кончалась встречей, все равно Длинной, короткой, или мгновенной… И так было все долгие годы жизни. Годы текли, а около нее в Москве, как будто не менялось ничто, ни она сама. Умерла (в молодости) ее сестра Юля; умер дядя; сломали серенький домик… А сижу я с Наташей в новой квартирке ее, тоже в деревянном домике против Зачатиевского монастыря, у самого Воскресенья, — и кажется мне, что ничто не двинулось, что выйдет сейчас и прошаркает туфлями дядя… И что не в Петербург или за границу уеду я завтра, а пойду в свой переулок и буду вечером учить уроки.
Мы уже говорим «обо всем». Впрочем, что можно сказать о любви? Ничего о ней никогда сказать нельзя. Я знаю, что Наташа «и тогда» любила меня, — но как? О моей любви — она знает; но что она знает? Что и я-то, в конце концов, знаю?
У нас такая разная жизнь. Так мы сами разны. Так давно все это было. А смотрит она на меня, худенькая, сухонькая, по-прежнему сияет ее улыбка, и не могу я понять, хочется мне плакать или смеяться.
— Ты — поэзия моей жизни, — говорит она ужасно просто без всякой «сантиментальное™». — Уедешь — приедешь, и всегда я знаю, что ты где-то со мной.
Опять пролетели годы. Последние, страшные сначала — глухие потом. Где же ты, Наташа?
«Из равнодушных уст я слышу смерти весть…» и странно ей внимаю, тихо, без удивления. Как всем вестям таким теперь.
Умерла давно, уже два года тому назад. Умерла в нищете, даже не в родной Москве — а в Муроме, у дальней племянницы, которая приняла ее из милости «в старухи».
Ну, что ж. Пришла сюда раньше меня, ушла раньше меня. Она терпеливая, она подождет… следующей встречи. Ведь и здесь она знала, когда мы расставались, что мы непременно еще увидимся; и что пока не видимся — я все равно «где-то с ней».
А первая любовь — она, говорят, на небе у ангелов записана. Есть такие у них для этого книги.
Я очень устал. Целое послезавтрака опять строил хижину, или шалаш, или келью… Это у меня такая длинная игра… я о ней расскажу потом. Мне после завтрака, до обеда, не позволяют заниматься тем, что я сейчас люблю больше всего на свете, — говорят, жарко. Да я сам, впрочем, не хочу; я жду вечера. В шесть часов лучше… Но об этом тоже потом.
Хижину, сколько ни строй, никогда не выстроишь так, как хочется и представляется. Сижу, усталый, в тополевой аллее, смотрю на свои голые коленки: парусиновый костюмчик я ужасно измазал; на правой штанишке дыра. И хотя неприятно, — я думаю не о дыре, а вот почему нельзя ничего так сделать, чтобы уж совсем, совсем хорошо было?
Рядом сидит нянька Устинья с моей маленькой сестрой на руках и тонким, чистеньким голоском выводит:
Сива зозуля ховается
Пид капустный пид листочек…
Нянька Устинья ужасная песенница, никогда не помолчит. Особенно любит эту «зозулю».
Нянька не моя, ко мне не имеет никакого отношения. Я живу на полной свободе. Да и смешно было бы: я благоразумный и самостоятельный мальчик, к тому же большой не по го-Дам: мне никто не дает меньше восьми лет, а иные — даже девять! Я уж и молчу, хотя твердо знаю, что мне только через сколько-то недель исполнится семь.
Сива зозуля ховается
Пид капустный пид листочек…
Ну хорошо, зозуля, только почему кукушка в капусте, и что °на все прячется? Нянька петь может, а сказать песню словами никогда не может. Такая смешная. И носик у нее смешной, плоскенький, как у маленькой уточки. Вся маленькая, темный очипок тоже гладенький, маленький.
У меня зимой была — не нянька, а фрейлейн; но, сказать правду, я ее выжил. Зачем мне фрейлейн, и зачем немецкий язык — когда я все равно буду монахом? Да, да, это решено: монахом. Мама не знает: поговаривает, что зимой возьмет мне француженку или англичанку. Посмотрим. Никто мне не нужен; что мне нужно — знаю я сам, да немножко бабушка.
Славно как на даче. За тополями малинник, а там вишенье… Когда жарко — клей на солнце блестит, а что вкуснее клея? Заберусь, вгрызусь в серое деревцо зубами, и откушу клей. Мягкий. Тянется за зубами, и лучше конфеты пахнет.
Потом огород. Гарбузы полосатые, надутые, и темненькие кавунчики, кругленькие, еще маленькие, — совсем ребячьи головки. Лежат — валяются прямо на земле, в листьях, а сами растут и полнеют, теплые от солнца.
За огородом уж видно… Нет, еще не скажу, что видно за огородом. Я на полянку, за огород, пойду после обеда…
— Панычу, да што вы каки смутны? — спрашивает нянька. — Притомились?
Она со мной старается говорить не по-малороссийски, не знаю почему: я все понимаю и даже не замечаю по-какому мне говорят. Конечно, папа и мама говорят не так, как Гапка, Василиса и Дмитро; но ведь Дмитро и Василиса не умеют читать, а мы с папой-мамой умеем, ну и говорим, как в книгах.
Можно ли монаху сгрызать вишневый клей? Как будто можно, ведь клей постный! Однако ни в одном житии ничего не сказано про клей, — вдруг это грех?
Я всегда читаю бабушке «Жития Святых» — толстая такая книга в бледно-зеленом переплете, — и уж каждого святого великолепно знаю. Прежде я сказки читал, — вот скука! Все выдумка, а это настоящее, как было, и потому самое интересное.
Я люблю, чтобы все было очень понятно. Прежде, когда мы не читали с бабушкой жития святых, мне многое казалось непонятным и даже страшным. Но в книге все объяснено. На свете бывает много неприятного; чтобы прошло — надо сейчас же помолиться. Или чего-нибудь захочешь: тоже надо помолиться, и будет. Если очень большое — дается чудо. Конечно, следует внимательно следить за своими грехами: не накапливать, скорее каяться. Лучше всего быть святым. Если не придумаешь сразу, как стать святым — просто идти в монахи: все монахи святые.
Вот только насчет греха у меня, с недавних пор, начались сомнения. И началось так: я приставал с грехом к бабушке, она сначала говорила глупости, что мои грехи — капризы, да когда я не слушаюсь, — ну всякий вздор; а потом сказала, что у меня вовсе нет грехов; кому нет семи лет, тот младенец, и я могу причащаться так.
Могу? Нет, не могу. Я сам лучше знаю, могу или не могу. Я уж давно, уж две недели, чувствую в себе грех.
Грех мой — в Наде. Что я, ненавижу ее? Или завидую ей? Или так завидую, что ненавижу? Решительно не знаю. А что грех, и что он где-то около Нади — это я знаю.
Ну вот, зовут обедать. Нянька давно ушла. И я встал. Не бегу, а тихо иду по дорожке, размышляя.
Чего мне хочется? Чтобы Надя — что? Зла ей что ли хочу? Нет. Где же грех? Ничего не понимаю.
За обедом дядя Миша, как всегда, надоедал. У него черные-черные усы и белые-белые зубы. И дразнится.
— Сережа такой громадный, а неловкий. Вечно падает. Очень стыдно. Мы его скоро не женим, нет!
Я мог бы сказать, что хотя я и большой, но летами маленький, а жены не хочу даже когда мне будет и много лет. Но я знаю, что всего лучше на эти глупости молчать, потому молчу.
— Ты надулся, Сережа? Не дуйся. Воспарять-то, наверно, захочешь вечером, а? А будешь дуться — воспарение тю-тю, не пустят.
Он называет «воспарением» вот это самое, что я сейчас больше всего на свете люблю, чего жду с утра до вечера. А это — гигантские шаги.
Бегать на гигантских шагах — вовсе не бегать: тут главное — летать. Летать, воспарять, как в бабушкиной книге про летанье говорится, и сам же я сказал это, когда понял о гигантских шагах. А понял сразу. Еще когда был на полянке маленький серый столб с веревочными петлями; я первый раз сел, полетел, упал — но понял.
Мама сказала, что столб гадкий, опасный и гнилой — шатается. Но увидела, что мне все равно, не послушаюсь. Обещала, что будет новый.
Его привезли — белый, толстый, внизу для крепости осмоленный. Врыли на месте старого, — ух, как глубоко! А он все же оказался вдвое выше старого. Веревки длинные — с клеенчатыми сиденьями. Вверху — широкая звезда в четыре крючка — и как она, ох, как она поет — скрипит жалобно, мерно, тонко, когда крутится, когда мы на веревках летаем! Точно зовет к себе, — вот бы до нее!
Я не люблю один, да и нельзя: только закрутишься вокруг столба. Хорошо, что есть дядя Миша, он тоже любит, а главное — Надя. Да, вот тут-то все и соединилось!
Дядя Миша бежит за мной (у меня петелька чуть покороче), против него всегда Надя, а против меня который-нибудь из Надиных братьев, — киевских семинаристов.
Господи, как мы летаем! Я всех меньше, все-таки, и потому как сяду — так и лечу, одна беда — не успеваю ногами оттолкнуться с силой, летаю невысоко. Дядя Миша высоко, и семинарист ничего, но как Надя — этого нельзя вообразить, это явное чудо. Я все вижу, я лечу прямо за ней. Чуть дотронется земли желтыми туфельками — и вверх, веревка натянется, Надина стриженая голова выше клуни, я сам видел: сто раз перекручусь, уж совсем низко над песком несет меня, а ее голова опять над клуней, а на зеленом небе выделяется. Дядя Миша нагоняет меня, кричит: