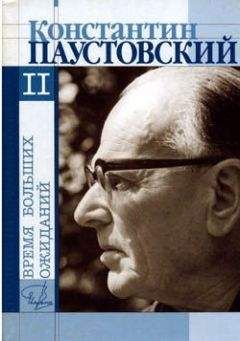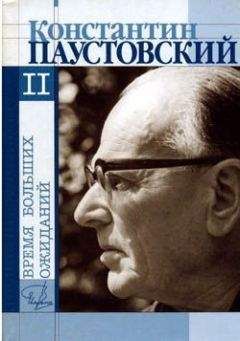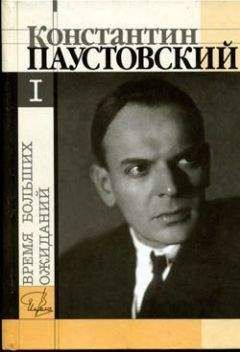Старик плакал. Я скомкал разговор, попрощался и выскочил из комнаты. Он явно врет. Но тогда почему же он плачет? Адрес героини запутал меня совершенно.
В тот же вечер я поехал в Пушкино. Была черная весна, похожая на осень, подмерзшая листва хрустела под ногами, свежий воздух резал легкие. Я посмотрел на адрес: «Пушкино, аптека, спросить Наталию Викторовну».
В аптеке было пусто, полутемно. Вышла бледная женщина. Рыжеватые волосы ее были гладко зачесаны, глаза – пустые, недоверчивые.
– Вы ко мне?
– Да. Меня направил Никифоров. Я хочу поговорить с вами о «Живом трупе».
Она долго смотрела на меня, глаза ее почернели, потом истерично крикнула:
– Уйдите! Оставьте меня в покое! Как вы смеете! Довольно с меня Толстого.
Она опустилась на стул у прилавка, забилась. Из задней комнаты выбежал толстый маленький аптекарь. Он суетился, совал ей что-то нюхать, охал и качал головой.
– Как неосторожно! Боже мой, как неосторожно, – говорил он и с укором смотрел на меня. – Как вы ее нашли? Кто вы такой? Ай-ай-ай, как скверно вышло! Вы лучше уйдите. Она совсем не может вспоминать об этом.
До рамой Москвы лицо мое горело от стыда. В вагоне я открыл окно и высунулся. Поезд шел по закруглениям в лесу, пар цеплялся за деревья. В лесных чащах лежала ночь, было глухо и одиноко. Не верилось, что в двадцати верстах Москва.
В Москве я сказал редактору:
– Увольте меня, но таких поручений я больше брать не буду.
Он посмотрел на меня и пожал плечами.
– Настоящий журналист не должен отказываться ни от каких поручений. Это закон. Или да, или нет.
– Нет, – ответил я.
– Ума не приложу, что мне с вами делать.
Я ушел.
Литератор был прав. Газета меня затянула. Горячечная жизнь редакции билась часто, как пульс Москвы – города астраханских базаров и лондонского Сити. Я изучал журналистов как особую разновидность людей. Это были комки нервов, один кричащий нерв – начиная от пронырливых и задорных репортеров и кончая раздраженными и хмурыми редакторами.
Кокаинисты, пьяницы, весельчаки, потерявшие веру во все, они ощущали жизнь как веселящий газ. Обыденность жизни, внушавшая другим скуку, ежедневная необходимость заводить часы на новые сутки была для них не страшна, наоборот – приятна. Она возбуждала. Каждый день вставал, как громадный вопросительный знак, и только им одним было дано отыскать гвоздь этого дня, его стержень, стереть вечером до нового утра этот исполинский вопросительный знак.
Среди них попадались необычайные рассказчики – резкие, обрывистые, говорившие началами фраз, лепившие сюжет из одних мазков, отбрасывая связи и подробности.
Были непролазные неудачники, над которыми полагалось смеяться. Были присяжные поверенные, блиставшие пустым красноречием, старые народники, маклера, поэты, вечные студенты, нищие московские чудаки, любители соловьиного пения, надменные короли-фельетонисты, – собрание совершенно непохожих людей, связанных товариществом, работой, богемством и всегда выделявших себя над плотной массой служилого люда… Жизнь страны преломлялась в их мозгах сотней забавных или печальных анекдотов.
После десяти лет работы они теряли вкус к жизни, верстали, как автоматы, газетные страницы, дымили крепким табаком и скептически посматривали на газетную молодежь, гонявшуюся за сенсациями.
Только это слово – сенсация – действовало на всех одинаково. Это был взрыв бомбы, подымавший на ноги редакционные муравейники и выводивший из величавого недовольства редакторов. Охрипшие репортеры, треск машинок, истерический звон телефонов, сияющие глаза – вот она, сенсация!
Тогда над Москвой стояла густая, как запах духов, певучая экстравагантность стихов Северянина. Трагическое его лицо плыло по Кузнецкому мосту рядом с желтой и тревожной кофтой Маяковского.
Читал свои рассказы Бунин. Его глухой, без интонаций, голос усыплял. Сюртук был застегнут на все пуговицы, пергаментные руки были брезгливы и сухи, но за всем этим вдруг расцветала жаркая Иудея и русский язык сверкал, как только что найденный клад золотых монет.
С наигранной и пышной восторженностью шаманил Бальмонт. Внезапно стихи его теряли костяк, плыли словесным туманом. За ними открывалась выхолощепность души. Маленький дряблый человек становился на дамские каблуки и, не замечая собственного уродства, играл роль соблазнителя.
Процветали теософы. Люди играли грошовыми идеями, как величайшими открытиями, от общения с ними тошнило, как от патоки. Женоподобные нарумяненные мужчины не стыдились ходить по улицам, – был их век.
Было тоскливо и тревожно. Я каждый день ждал событий, чего-то нового. Оно должно было случиться, должно было проветрить застоявшуюся Москву и всю Россию.
Ночь была совсем морская – горьковатая, как рассол. Я видел за синими квадратами окон северные звезды. Я прижимался лбом к холодному окну и смотрел в снежные пропасти улиц, где качались, жужжа, калильные фонари. Занималась заря над крышами Замоскворечья. Меня лихорадило. Сухо было во рту, и ломило ноги.
Я боялся, что зимние ночи своими морозными ветрами и полярным мраком лягут на торопливые строчки, и будет мало солнца в моей почти законченной книге.
Я проклинал эти ночи, и дневную усталость, и четыре фабричные трубы за Каменным мостом. При взгляде на них словно сморщивалась моя мысль. Подолгу, ничего не видя, я сидел у стола в каком-то оцепенении.
Но этой ночью я писал легко и спокойно. Я уснул ранним утром, когда по Арбату прогромыхал, светя огнями, первый трамвай.
Разбудил меня Семенов – наш газетный художественный критик. Мягкий, влюбленный в Москву, он за последние дни все чаще сидел у меня, пил чай с коньяком и читал стихи Оренбурга.
– У Эренбурга есть изумительные вещи! – говорил он, словно оправдываясь, и вытаскивал из кармана книжку. – Вот послушайте:
Как много нежного и милого
В словах «Арбат», «Дорогомилово».
Или вот это:
Я скажу вам о детстве ушедшем, о маме
И о мамином теплом платке,
О столовой с буфетом, с большими часами
И о белом щенке.
Ведь это же редкие вещи, как вы не понимаете! Вам нужна всякая чертовщина – драки, тропическая жара, кругосветные рейсы. А мы попроще. Сядем с ногами на диван, самовар шумит, читаем Лескова – и хорошо. А то пойдем в Художественный, пожалеем трех сестер. Или пошляемся по трактирам, попьем чайку с тверскими извозчиками. Хорошо еще под Москвой – в Архангельском, Останкине, – там прелесть вековая. Ничего этого вы не знаете. Хотите, поедем в Нескучный сад?
– Едем.
У Калужских ворот было шумно. Дрались в лошадином навозе воробьи. Ветер гнал прошлогоднюю сухую листву, низко лежало над улицами серенькое, помаргивающее небо.
Нескучный сад был весь точно выткан черным узором ветвей и позолотой листвы, пережившей зиму. В окнах дворца светилось небо, за Хамовниками дымно лежала Москва, яркие пятна Спасителя.
– Вот вам Москва, – радостно сказал Семенов. – Есть в этом городе великая правда. Здесь, в Москве, чувствуется вся хлебная Россия, крепкий запах берез, бескрайность и сиротство нас, русских. К Москве, как и ко всей стране, я чувствую свою сыновность, как к старенькой няньке. Помню, во Франции я жил в маленьком бретонском городке. Как-то утром я проснулся и в зеленом тумане увидел тяжелый океан. Я испугался, и у меня была одна мысль – скорее уехать домой в Россию, в осень, в лесные поляны, заросшие вереском и дикой гвоздикой.
Мы медленно шли обратно. У заставы зашли в трактир Гусева. Внизу гудели извозчики. Наверху, в «дворянских комнатах», гремела машина:
Шумел, горел пожар московский,
Дым расстилался по реке,
А на стенах высот кремлевских
Стоял он в сером сюртуке.
Дребезжали стекла. Напрягая голос, я рассказал Семенову о книге, которую пишу. Называться она будет просто – «Жизнь».
Жизнь каждого – безвестного и великого, безграмотного и утонченного – всегда таит саднящую тоску о другом, более радостном существовании. Так рождается тоска по раю, по стране обетованной, грезы поэтов, системы философов, переливающееся из одной эпохи в другую томление по недосягаемым краям. «О вещая душа моя! О сердце, полное тревоги, о, как ты бьешься на пороге как бы двойного бытия!…»
– Сюжета я в этом не вижу, – сказал Семенов. – Очевидно, это только канва. Ну что же, пишите. Это прекрасно – писать. Люблю я эти трактирные разговоры, – сказал он неожиданно и рассмеялся.
Возвратились мы вечером. В уютных переулках Арбата мягко горели звезды. Ровный шум наплывал с бульваров.
Квартира Семенова была на шестом этаже, как в маяке. В тесном кабинете были навалены книги, рукописи, гравюры.
Семенов перелистывал толстый веленевый том, сидя на вытертом турецком диване. Его сестра Наташа, молодая артистка, читала вполголоса стихи Волошина. На улице было холодно. В соседней комнате старая нянька готовила чай и старалась не шуметь.