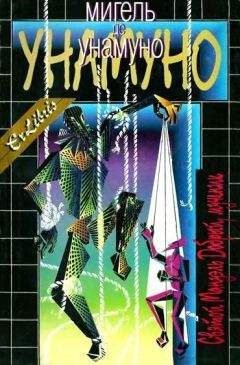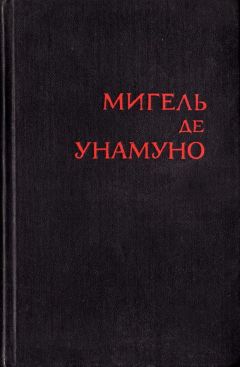Здесь я понемногу превращаюсь, несмотря на присутствие человеческих теней, время от времени попадающихся мне на дороге, в Робинзона Крузо, в отшельника. Помнишь, как мы с тобой читали тот приводящий в трепет пассаж про Робинзона, когда он, направляясь однажды к своей лодке, вдруг в изумлении обнаружил на прибрежном песке след босой человеческой ноги? Он замер, словно ослепленный, словно пораженный молнией – thunderstruck, – как будто перед ним возникло привидение. Прислушался, огляделся, но ничего не услышал и не увидел. Обежал весь берег – никого! И ничего, кроме отпечатка ноги, пальцев, пятки – всей ступни, как она есть. И Робинзон, подстегиваемый беспредельным ужасом, повернул к пещере, к своему укрепленному убежищу, оборачиваясь каждые два-три шага и шарахаясь от деревьев и кустов, – ведь издали в каждом стволе ему чудился человек, полный коварства и злобных умыслов.
Ах, как хорошо я представляю себе Робинзона! Я ведь тоже бегу, но не от следов босых человеческих ног, а от словоизвержения человеческих душ, закосневших в самодовольном невежестве, и уединяюсь, оберегая себя от столкновения с их скудоумием. Я иду на берег слушать морской прибой или поднимаюсь на гору и прислушиваюсь к шуму ветра в листве деревьев. Никаких людей! И разумеется, никакой женщины! Разве что ребенок, еще не умеющий говорить, не умеющий повторять все эти прелестные нелепицы, которым его, как попугая, обучают дома родители.
Вчера я бродил по лесу и тихонько беседовал с деревьями. Бесполезно бежать от людей: они встречаются повсюду; и мои деревья – очеловеченные деревья. И не только потому, что они посажены и выращены людьми, но еще и по другой причине: эти деревья – прирученные, домашние.
Я подружился с одним старым дубом. Ах, если бы ты мог видеть его, Фелипе, если бы ты мог его видеть! Какой богатырь! Должно быть, он уже очень стар. Отчасти даже мертв. Заметь хорошенько: отчасти! Но не весь. На нем – глубокая рана, которая позволяет заглянуть в его нутро. И это нутро – пусто. В его глубине обнажается сердце. Наши поверхностные ботанические познания говорят, что настоящее сердце дерева совсем не там, что его соки циркулируют между заболонью древесины и корой. Но как меня трогает эта разверстая рана с округлыми закраинами! Ветер врывается в нее и проветривает дупло, где, случись непогода, вполне может укрыться путник и где мог бы найти себе убежище какой-нибудь отшельник, лесной Диоген. И все же сок бежит между корой и древесиной и дает жизненную силу листьям, зеленеющим на солнце. Зеленеющим до той поры, пока, пожелтев и пожухнув, они не закружатся по земле и, сопрев у подножия лесного великана, в тесных объятиях его сплетшихся корней, лягут покровом перегноя, который будет питать будущей весной новую листву. Если бы ты видел, как тесно переплелись эти мощные корни, пронизывающие землю тысячами своих разветвлений! Корни дуба вцепились в землю, подобно тому как его крона цепляется за небо.
Когда настанет осень, думаешь ты, дуб останется стоять, обнаженный и безмолвный… Однако это не так, ибо он заключен в объятия столь же стойкого плюща. Между выходящими на поверхность корневищами и по всему стволу дуба видны сильные, плотные кольца плюща, он, обвившись вокруг старого дерева, одевает его своими блестящими вечнозелеными листьями. И когда листва дуба покорно ляжет на землю, ветер будет петь ему зимние песни, перебирая листья плюща. И дуб, еще голый, зазеленеет на солнце, и, быть может, какой-нибудь пчелиный рой заселит обширную рану в его чреве.
Я не знаю отчего, мой дорогой Фелипе, но случилось так, что тот старый дуб почти примирил меня с человечеством. К тому же – почему бы мне не сознаться тебе в этом? – я уже так давно не слыхал ни одной глупости! А без этого, как видно, долго не проживешь. Боюсь, что я потерплю поражение.
Разве я тебе не говорил, Фелипе? Я потерпел поражение. Я сделался завсегдатаем казино – разумеется, не столько затем, чтобы слушать, сколько затем, чтобы смотреть. На время начавшихся дождей. В плохую погоду ни берег, ни лес – не место для прогулок, а сидеть в отеле – чем бы я стал там заниматься? Целыми днями читать или, вернее, перечитывать давно известное? Благодарю покорно. Вот я и повадился ходить в казино. Заглядываю мимоходом в читальный зал, где принимаюсь просматривать газеты, но вскоре отвлекаюсь наблюдениями за читателями. Газеты откладываю в сторону: они еще глупее, чем люди, которые их делают. Среди газетчиков попадаются остряки, умеющие произносить глупости с блеском, но едва они их напишут – тут уж блеска как не бывало. А что до читателей, то нужно видеть, какие у них становятся карикатурные физиономии, когда они смеются над газетными карикатурами!
Я скоро покидаю залу, стараясь поискусней проскользнуть мимо групп и кружков, образуемых этими людьми. Осколки доносящихся до меня разговоров бередят мою рану, ради излечения которой я удалился, словно на целебные воды, в этот приморский горный уголок. Нет, нет, я не в силах выносить человеческую глупость! Все это и побудило меня отважиться – разумеется, с соблюдением приличествующей скромности – на роль посетителя, глазеющего на партии в тресильо, туте или мус. Игроки по крайней мере нашли способ общения почти без слов. И здесь стоит вспомнить высокомерную глупость, изреченную псевдопессимистом Шопенгауэром, о том, что дураки, не обладая мыслями, которыми они могли бы обмениваться, выдумали вместо мыслей обмениваться раскрашенными кусочками картона, получившими название карт. Но если ураки изобрели карты, то они уже не такие дураки, поскольку самого Шопенгауэра на это не хватило, а хватило его лишь на систему, представляющую собой колоду мыслей, именуемую пессимизмом, где наихудшей картой является страдание, словно, кроме него, нет тоски или скуки – словом, того, что убивают за игрой картежники.
Я начинаю знакомиться с завсегдатаями казино, моими сотоварищами, ибо я тоже сделался его завсегдатаем, хоть и не столь усердным и, разумеется, не принимающим участия в игре. Забавляюсь тем, что, прохаживаясь среди игроков по зале, стараюсь вообразить себе, о чем они думают, – естественно, когда молчат, ибо когда из их уст вырываются возгласы, я не в силах уяснить, какое касательство имеют они к их мыслям. Вот почему в моем любопытствовании я предпочитаю партии в тресильо партиям в мус: игроки в мус очень много говорят. А весь этот гам: «прикупаю!», «мажу пять!», «мажу десять!», «взяла!» – может ненадолго развлечь, но в конце концов утомляет. «Взяла!» забавляет меня более всего, особенно когда один из игроков бросает его другому с видом боевого петуха.
Гораздо привлекательней, на мой взгляд, шахматы, – ты ведь знаешь, что в дни юности я отдал дань этому отшельническому пороку, которому предаются в обществе, состоящем из двух человек. Если только это можно назвать обществом. Но здесь, в казино, шахматные партии лишены атмосферы тихой сосредоточенности и одиночества вдвоем, ибо игроков сразу же окружает толпа любопытствующих, они вслух обсуждают ходы, а иные в азарте даже хватаются за фигуры, чтобы самим сделать ход. Особенный интерес вызывают партии между горным инженером и судьей в отставке, они и вправду весьма курьезны. Вчера судья, очевидно страдающий циститом, весь извертелся, и было ясно, что ему невтерпеж, но в ответ на предложение прервать игру и посетить уборную он заявил, что ни за что не пойдет туда один: пусть инженер сопровождает его, иначе за время его отлучки он может поменять позиции фигур в свою пользу; и партнеры отправились в уборную вдвоем: пока судья облегчал свой мочевой пузырь, инженер его дожидался. А зрители, воспользовавшись их отсутствием, переставили на доске все фигуры.
Однако здесь есть некий странный сеньор, уже приковавший к себе мое внимание. Я слышу – впрочем, нечасто, ибо к нему редко кто из присутствующих обращается, – как его называют (возможно, так его и зовут): дон Сандальо, и похоже, что шахматы – главная страсть его жизни. Все остальное в его существовании для меня тайна, но я и не пытаюсь ее разгадать. Мне интересней самому сочинить его историю. В казино его влекут только шахматы, он играет, не произнося ни единого слова, с одержимостью помешанного. Видно, что, кроме шахмат, для него никого и ничего не существует. Посетители казино относятся к нему то ли с вежливым почтением, то ли с вежливым равнодушием, впрочем, как я мог заметить, не лишенным оттенка сострадания. Думаю, что его считают маньяком. Однако всегда находится кто-нибудь, кто, скорее всего из жалости, предлагает ему партию в шахматы.
Зрителей при этом не бывает. Все знают, что дон Сандальо не выносит чужого любопытства, и не мешают ему. Я сам не рискую приблизиться к его столику, а ведь этот человек неотступно занимает меня. Он так обособлен в этой толпе, так погружен в себя! Вернее сказать, в игру, она для него – священнодействие, своего рода религиозный обряд. «Чем же он занят, когда не играет? – вопрошал я себя. – И чем зарабатывает себе на жизнь? Есть ли у него семья? Любит ли он кого-нибудь? Хранит ли в душе боль, разочарование или память о какой-то пережитой им трагедии?»