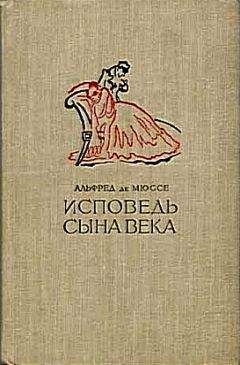Разместив все таким образом, я затопил камин, сел перед ним и стал упиваться беспредельным отчаянием. Я заглядывал в самую глубину моего сердца и, чувствуя, как оно сжимается и надрывается от муки, вполголоса напевал тирольский романс, который постоянно пела моя возлюбленная:
Altra volta gieri biele,
Blanch'e rossa com'un' flore;
Ma ora no. Non son piu biele,
Consumatis dal' amore.[2]
Я внимал отзвуку этого убогого романса, отдававшемуся в пустыне моего сердца, и думал:
«Вот людское счастье. Вот мой скромный рай. Вот моя фея Маб, это уличная женщина. Да и моя возлюбленная не лучше. Вот что находишь на дне кубка, из которого пьешь божественный нектар. Вот труп любви».
Несчастная, услышав, как я напеваю, тоже запела. Я стал бледен как смерть, — хриплый и грубый голос, который исходил из этого существа, похожего на мою любовницу, представлялся мне символом того, что я испытывал. Само распутство клокотало у нее в горле, хоть она и была еще в расцвете юности. Мне казалось, что у моей любовницы после ее вероломства должен быть такой голос. Я вспомнил Фауста, который, танцуя на Брокене с молодой голой ведьмой, видит, как изо рта у нее выскакивает красная мышь, и я крикнул: «Замолчи!»
Я встал и подошел к ней. Она, улыбаясь, села на мою постель, и я улегся там рядом с ней, словно мое собственное изваяние на моей гробнице…
Прошу вас, люди нашего века, вы, которые в настоящую минуту ищете развлечений, спешите на бал или в Оперу, а вечером, ложась спать, прочитаете на сон грядущий какое-нибудь приевшееся проклятие старика Вольтера, какую-нибудь справедливую шутку Поля-Луи Курье, какое-нибудь выступление по экономическим вопросам в одной из комиссий наших палат… прошу вас, так или иначе впитывающих холодные испарения уродливой водяной лилии, насаждаемой Разумом в самой сердцевине наших городов, прошу вас, если эта мало вразумительная книга случайно попадется вам в руки, не улыбайтесь с видом благородного презрения, не очень пожимайте плечами, не говорите с чересчур большой уверенностью в своей безопасности, что я жалуюсь на воображаемую болезнь, что в конечном итоге человеческий разум самая прекрасная из наших способностей и что здесь, на земле, реальны только биржевые спекуляции, хорошие карты в игре, бутылка бордо за столом, здоровье, равнодушие к другим, а ночью, в постели, — сладострастное тело с гладкой надушенной кожей.
Ведь когда-нибудь над вашей косной и неподвижной жизнью тоже может пронестись порыв ветра. Провидение может подуть на эти прекрасные деревья, которые вы орошаете спокойными водами реки забвения; вы тоже можете прийти в отчаяние при всем вашем хваленом бесстрастии, и на глазах у вас выступят слезы. Я не буду говорить вам, что ваши любовницы могут вам изменить, для вас это меньшее горе, чем если бы у вас пала лошадь, — но скажу вам, что на бирже бывают и потери, что, когда в игре на руках у вас три одинаковых карты, у партнера может оказаться такая же комбинация. Если же вы не играете, подумайте о том, что ваше богатство, звонкая монета вашего спокойствия, золотая и серебряная основа вашего благополучия, находится у банкира, который может обанкротиться, или в государственных процентных бумагах, которые могут быть объявлены недействительными. Скажу вам наконец, что при — всей вашей холодности вы можете кого-нибудь полюбить; что может ослабнуть какой-то фибр в сокровенной глубине вашего существа и вы можете испустить крик, похожий на крик скорби. И когда-нибудь, когда не станет больше чувственных утех, отнимающих ваши праздные силы, когда действительность и повседневность изменят вам и вы с ввалившимися щеками будете бродить по грязным улицам, вам случится бросить по сторонам унылый взгляд и присесть в полночь на одинокую скамейку.
О люди из мрамора, возвышенные эгоисты, неподражаемые резонеры, никогда не совершившие ни арифметической ошибки, ни поступка, внушенного отчаянием, — если это когда-нибудь случится с вами, в час вашего бедствия вспомните Абеляра, утратившего Элоизу. Ведь он любил ее больше, чем вы ваших лошадей, ваше золото и ваших любовниц; ведь, расставшись с ней, он потерял больше, чем вы можете потерять когда-либо, больше, чем сам князь тьмы, которому вы поклоняетесь, потерял бы, вторично упав с небес; ведь он любил ее такой любовью, о которой не говорят газеты и даже тени которой не видят в наших театрах и в наших книгах жены ваши и дочери; ведь он провел полжизни в том, что целовал ее ясный лоб и учил ее псалмам Давида и песнопениям Саула; ведь у него никого не было на земле, кроме нее, и, однако, бог послал ему утешение.
Поверьте мне, когда среди ваших бедствий вы подумаете об Абеляре, вы другими глазами взглянете на мягкие богохульства старика Вольтера и на шутки Курье; вы поймете, что человеческий разум может излечить от иллюзий, но не от страданий; что бог сделал его хорошей хозяйкой, но не сестрой милосердия. Вы поймете, что сердце человека, когда он крикнул: «Я ни во что не верю, ибо я ничего не вижу», — не сказало своего последнего слова. Вы будете искать вокруг себя нечто, похожее на надежду; вы будете сотрясать церковные двери, желая посмотреть, целы ли они еще, но вы найдете их замурованными; вы вознамеритесь стать монахами, а судьба, которая насмехается над вами, пошлет вам в ответ бутылку простого вина и куртизанку.
И если вы осушите эту бутылку, если вы возьмете эту куртизанку и уведете ее на ваше ложе, — пусть будет вам известно, что может из этого выйти.
Проснувшись на другой день, я почувствовал такое глубокое отвращение к самому себе, я счел себя так низко павшим, что в первую минуту у меня явилось ужасное искушение. Я вскочил с постели, приказал этой твари одеться и уйти как можно скорее, потом сел и, обводя скорбным взором стены комнаты, машинально остановил его на том углу, где висели мои пистолеты.
Если страждущая мысль и устремляется к небытию, простирая, так сказать, руки ему навстречу, если душа ваша и принимает жестокое решение, все же само физическое действие, — вы снимаете со стены оружие, вы заряжаете его, — даже сам холод стали наводит, по-видимому, невольный ужас; пальцы готовятся с тоскливой тревогой, рука теряет гибкость. В каждом, кто идет навстречу смерти, восстает вся природа. И то, что я испытывал, пока одевалась эта женщина, я могу изобразить только так, как будто мой пистолет сказал мне: «Подумай о том, что ты собираешься сделать».
Впоследствии я часто думал о том, что было бы со мною, если бы, как я того требовал, это создание поспешно оделось и тотчас удалилось. Первое действие стыда несомненно смягчилось бы: печаль не есть отчаяние, и судьба соединила их, словно братьев, чтобы один никогда не оставлял нас наедине с другим. Как только эта женщина перестала бы дышать воздухом моей комнаты, я бы почувствовал облегчение. Со мной осталось бы только раскаяние, которому ангел божественного прощения запретил кого-либо убивать. И, несомненно, я излечился бы на всю жизнь, распутство навсегда было бы изгнано с моего порога, и ко мне никогда не возвратилось бы то чувство отвращения, которое внушил мне его первый приход.
Но случилось совсем иначе. Происходившая во мне борьба, одолевавшие меня мучительные размышления, отвращение, страх и даже гнев (ибо я одновременно испытывал множество чувств) — все эти роковые силы приковывали меня к моему креслу. А пока я находился в опаснейшем исступлении, девица, изогнувшись перед зеркалом, думала только о том, чтобы как можно лучше оправить свое платье, и, улыбаясь, причесывалась с самым спокойным видом. Все эти уловки кокетства длились более четверти часа, и за это время я почти забыл о ней. Наконец она чем-то стукнула, и я, нетерпеливо обернувшись, попросил ее оставить меня одного, причем в моем голосе прозвучало столь явное раздражение, что она собралась в одну минуту и, посылая мне воздушный поцелуй, повернула ручку двери.
В тот же миг у входа раздался звонок. Я вскочил и едва успел открыть девушке дверь в смежную комнатку, куда она и кинулась. Почти тотчас же вошел Деженэ с двумя молодыми людьми, жившими по соседству.
Некоторые жизненные события похожи на те мощные течения, какие встречаются в глубине морей. Рок, случайность, провидение — не все ли равно, как назвать их? Люди, которые думают, что отрицают одно название, противопоставляя ему другое, просто играют словами. Однако среди этих самых людей нет ни одного, кто, говоря о Цезаре или Наполеоне, неминуемо не сказал бы: «Это был избранник Провидения». Очевидно, они считают, что только герои заслуживают внимания небес и что цвет пурпура привлекает богов так же, как он привлекает быков.
Чего только не решают здесь, на земле, самые ничтожные вещи, каких только перемен в нашей судьбе не влекут за собой наименее, казалось бы, значительные явления и обстоятельства! Нет, по-моему, ничего более непостижимого для человеческой мысли. С нашими повседневными поступками дело обстоит так же, как с маленькими затупленными стрелами, которые мы привыкаем пускать в цель, или примерно в цель, и таким образом ухитряемся создать из всех этих малых результатов нечто отвлеченное и упорядоченное, называя это нашим благоразумием или нашей волей. Но вот проносится порыв ветра, и самая маленькая из этих стрел, самая легкая и ничтожная, поднимается и улетает в необозримую даль, по ту сторону горизонта, в необъятное лоно божье.