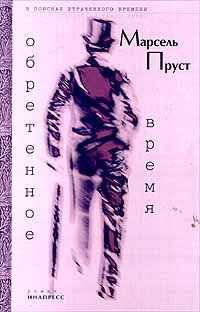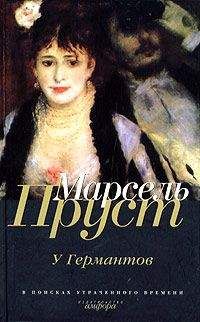Мы проводили Блока, который попрекал Сен-Лу тем, что, в отличии от него, Блока, все эти «именитые высокородные отпрыски», щеголяющие при штабах, ничем не рискуют, тогда как у него, простого солдата 2-го класса, нет никакого желания «дырявить шкуру из-за Вильгельма». «Похоже, что император Вильгельм серьезно болен», — ответил Сен-Лу. Блок, как и все люди, околачивающиеся возле биржи, с необыкновенной легкостью воспринимал сенсационные известия и потому воскликнул: «Говорят даже, что он умер». На бирже все монархи больны, а что до Эдуарда VII[43] или Вильгельма II, то они уже умерли; все осажденные города уже пали. «Правда, это пока скрывают, чтобы не ввергнуть бошей в отчаяние. Однако он умер вчера ночью. Мой отец узнал об этом из совершенно надежного источника». Постоянными сношениями с совершенно надежными источниками, которыми только, по счастью, и пользовался г-н Блок-отец, он был обязан своим «большим связям»; он получал оттуда секретные покуда новости о том, что «заграница растет», что «Де Бирс падает». Впрочем, если к указанному моменту рос курс Де Бирс, а «предложений» на «заграницу» не наблюдалось, если рынок первых был и «устойчивым», и «активным», тогда как вторых — «колеблющимся» и «неустойчивым», и держали их «в фондовом резерве», совершенно надежный источник оставался не менее надежным источником. Поэтому Блок известил нас о смерти кайзера с видом важным и таинственным, но также раздраженным. Особенно его взбесило, что Робер назвал Вильгельма императором. Я думаю, что и под резаком гильотины Сен-Лу и г-н де Германт не сказали бы иначе. Два этих светских мужа, останься они в одиночестве на необитаемом острове, где не перед кем обнаружить своих хороших манер, проявляли бы эту воспитанность, подобно латинистам, правильно цитирующим Вергилия. Сен-Лу никогда бы не смог, даже под пыткой у немцев, назвать «императора Вильгельма» иначе. И этот хороший тон, несмотря ни на что, есть свидетельство великих пут духа. Тот, кто не сумеет сбросить их, останется лишь светским человеком. Эта изящная посредственность, впрочем, прелестна — в особенности у всех, кто привержен ей из утаенного великодушия и скрытого героизма, — по сравнению с вульгарностью Блока, разом труса и фанфарона, выкрикивавшего Сен-Лу в лицо: «Ты не мог бы говорить просто: „Вильгельм“? Вот именно, ты трусишь, ты уже здесь ложишься перед ними ничком. Да!.. Хороши будут наши солдаты на фронте, они вылижут бошам сапоги. Вы, „ваш благородия“, только и умеете, что гарцевать на парадах. И точка».
«Бедняга Блок — он думает, что я только и делал, что гарцевал на парадах», — с улыбкой сказал Сен-Лу, когда мы распрощались с нашим приятелем. И я прекрасно понимал, что вовсе не парады интересовали Робера, хотя в то время мне сложно было угадать его намерения, о которых я узнал позже, когда кавалерия осталась незадействованной и он служил как офицер пехоты, затем как пехотный егерь, а что было дальше… увидим ниже. Блок не разглядел патриотизма Робера только потому, что Робер его не выражал. Если Блок исповедовал нам страстный антимилитаризм после того, как его признали «годным», то до этого, рассчитывая, что его освободят от службы по миопии, он выкрикивал шовинистичнейшие лозунги. Сен-Лу на подобные заявления был неспособен; прежде всего, из-за своего рода нравственной чуткости, не позволявшей ему выражать слишком глубокие чувства и то, что все находят естественным. Моя мать не только без колебаний отдала бы жизнь за бабушку, но и сама невозможность сделать это причинила бы ей невыразимые страдания. При всем том мне трудно представить, оглядываясь назад, в ее устах фразу вроде «я за свою мать жизнь отдам». Столь же молчаливым в своей любви к Франции был и Робер, и в этом момент я находил в нем гораздо больше фамильных черт отца его, Сен-Лу (насколько я мог его себе представить), нежели Германтов. От выражения подобных чувств его предохраняло своего рода нравственное достоинство ума. По-настоящему умные и серьезные труженики испытывают отвращение к тем, кто перекладывает свои действия в пустословие и набивает им цену. Мы не учились вместе ни в лицее, ни в Сорбонне, но независимо друг от друга ходили на лекции тех же преподавателей; я вспоминаю, как Сен-Лу смеялся над теми, кто — поскольку другие вели замечательные курсы, — желая прослыть гениями, давали амбициозное название своим теориям. Робер смеялся от души, когда мы об этом вспоминали. Естественно, мы не оказывали предпочтения Котарам и Бришо по инстинкту, но в конце концов преисполнились уважения к людям, которые в совершенстве изучили греческий или медицину и не находили возможным заниматься шарлатанством. Я уже говорил, что если все действия мамы подразумевали готовность отдать жизнь за бабушку, то даже в душе она никогда не смогла бы выразить словами этого чувства, и в любом случае она признала бы, что рассказывать о нем другим — это не только бесполезно и смешно, но даже возмутительно и позорно; точно так же невозможно было представить в устах Сен-Лу фраз об экипировке, о поездках, которые ему предстояло совершить, о наших шансах на победу, о невысокой ценности российской армии, о том, как поступила бы Англия; мне сложно представить в его устах красноречивые слова, обращенные каким-нибудь достойнейшим министром к депутатам, аплодирующим стоя. Нельзя, однако, сказать, что в этом чисто отрицательном свойстве, запрещающем выражать лучшие чувства, не было «духа Германтов», действие которого мы много раз наблюдали на примере Свана. И если я находил в нем черты, только ему, Сен-Лу, и присущие, то при этом он оставался и Германтом, и среди многочисленных причин, воспламенявших его смелость, находились особые, каких не было у его донсьерских приятелей, влюбленных в свое ремесло юношей, с которыми я ежевечерне встречался за ужином, — из них многие встретили смерть, увлекая за собой солдат в битве на Марне[44] и в других боях.
Юные социалисты, которые могли присутствовать и в Донсьере во времена моих посещений, хотя я с ними не свел знакомства по той причине, что в окружении Сен-Лу они представлены не были, теперь смогли удостовериться, что офицеры, принадлежащие этой среде, вовсе не были теми, кого «популо», офицеры, выслужившиеся из рядовых, франкмасоны, прозвали «аристо», то есть — высокомерными гордецами и низменными прожигателями жизни. И наоборот: тот же патриотизм офицеры из благородных в полной мере обнаружили у социалистов, которых они обвиняли в разгар дела Дрейфуса, когда я приезжал в Донсьер, в «безродности». Искренний и глубокий патриотизм военных застыл в четко определенной форме, которая представлялась им неприкосновенной, и нападки на нее их возмущали, тогда как патриоты независимые, без определенной патриотической религии, вроде радикал-социалистов, не могли понять, какая глубокая реальность заключена в том, что казалось им набором пустых и злобных фраз.
Вероятно, Сен-Лу, как и они, вынашивал в уме, как самую значимую часть своего существа, наиболее успешные со стратегической и тактической точки зрения маневры, исследовал их и определял, и как для них, так и для него жизнь тела стала чем-то относительно маловажным, — он легко мог пожертвовать ею ради этой внутренней части, их подлинного жизненного ядра, наряду с которым личное существование ценилось не более, чем защитный эпидермис. В храбрости Сен-Лу проявились и более личные черты, — там легко можно было распознать его великодушие, благодаря которому в истоках нашей дружбы было столько очарования, и наследственный порок, позднее пробудившийся в нем, который, обусловленный интеллектуальными рамками, за которые Робер не вышел, привел к тому, что он испытывал отвращение ко всякого рода изнеженности и опьянялся любым примером мужества. Размышляя о жизни под открытым небом с сенегальцами, поминутно жертвовавшими собой, он (целомудренно, наверное) находил в ней какое-то головное сладострастие, — туда многое, наверное, вошло от презрения к «музицирующим господинчикам», — и это чувство, в реальности столь далекое от того, чем оно ему представлялось, не особо отличалось от наслаждений, вызываемых кокаином, к которому он пристрастился в Тансонвиле; героизм такого рода (так одно лекарство подмешивают к другому) приносил ему исцеление. В его смелости проглядывала, во-первых, этакая привычная для него двоякая учтивость, силой которой он, с одной стороны, расхваливал других, а сам, с другой, довольствовался надлежащими поступками, особо о том не распространяясь, — в отличие от какого-нибудь Блока, который сам-то не делал ничего, но при встрече с Сен-Лу заявлял: «Естественно, вы драпанете»; во-вторых, он ни во что не ставил то, чем обладал, свое состояние, светское положение и даже свою жизнь, и готов пожертвовать ими. Одним словом, это было подлинное благородство. Но что только не смешалось в этом героизме — туда вошла и новая его наклонность, и не преодоленная им интеллектуальная посредственность. Усвоив привычки г-на де Шарлю, Робер унаследовал также, хотя и в довольно отличной форме, его идеал мужественности.