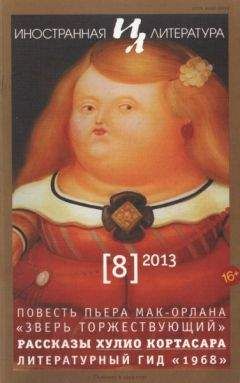На дворе стало смеркаться; поддьяк прибрал к стороне свои бумаги, вынул из поставца сулею с травником, ковригу хлеба, студень, горшок с гречневой кашей, накрыл стол ширинкою и расположился на нем ужинать вместе с огнищанином. Разумеется, он пригласил также и своего арестанта, но Левшин отказался. Когда поддьяк и огнищанин опорожнили по нескольку чарок травника, то у них пошла такая разгульная речь, побасенки, которые они принялись рассказывать друг другу, были до такой степени отвратительны и развратны, что Левшин не мог скрыть своего омерзения; он лег на лавку, повернулся к ним спиной и притворился спящим. Часа полтора продолжалась эта пытка, наконец полупьяные собеседники разошлись. Поддьяк скинул с себя верхнее платье, пробормотал молитву, отвесил несколько земных поклонов — и лишь только повалился на скамью, то в ту же минуту заснул мертвым сном. Левшин не скоро последовал его примеру. Он также помолился — и, вероятно, молитва его была усерднее, но глаза его не смыкались почти всю ночь. Он заснул перед самым рассветом или, лучше сказать, задремал, потому что этот сон не мешал ему слышать беспрестанный стук, похожий на работу плотников, которые что-то строили в близком расстоянии от земского приказа.
VI
На восточной стороне небосклона начинали уже тухнуть звезды, но увенчанный своими заборами, высокий кремлевский холм был еще покрыт ночною тенью. Внизу, у его подошвы, как седое море, волновался утренний туман над обширным Замоскворечьем. Все было погружено в глубокий сон. Но вот, темно-голубые небеса начинают становиться прозрачнее; вот осыпались искрами и засверкали кресты высоких колоколен; вот облились светом и позлащенные главы церквей: народ зашевелился по улицам. Москва проснулась.
Меж тем тревожный сон Левшина все еще продолжался; этот ночной стук, который он слышал в своем забытьи, превратился в какой-то невнятный говор людей; потом началось громкое чтение, вслед за ним послышались стоны, плач и рыдания, а там как будто бы упало что-то тяжелое; раздался глухой вопль — и все затихло. Во все это время Левшин не спал, а находился в том полусознательном состоянии, когда мы сквозь сон слышим близкие к нам звуки и, хотя не очень ясно, однако ж различаем окружающие нас предметы, но в то же самое время грезим и видим сны, в которых, разумеется, ложь и истина беспрестанно сменяют друг друга. Левшин слышал очень ясно этот разговор, чтение, плач и вопли; полузакрытым глазам его представлялись, как будто бы в тумане, низкие своды земского приказа, его тяжелые стены, окно с железной решеткой; он видел лампаду, которая висела перед иконою— и меж тем ему казалось, что он стоит в церкви, где, при тусклом свете погребальных свечей, отпевают покойника; что священник читает разрешительную молитву; что родные и друзья усопшего лобызают его с плачем и рыданием; что вдруг тяжелая гробовая крышка с громким стуком падает на церковный помост — и среди общего мертвого молчания раздается удушливый вопль покойника Он медленно подымается из гроба.
Левшин слышит вокруг себя какой-то непонятный шепот; все теснятся, спешат к церковным дверям, а он стоит, как прикованный, и не может пошевелиться ни бдним членом. Вот тухнут все свечи, но вместо темноты разливается кругом кровавый свет, похожий на зарево отдаленного пожара; церковный помост начинает колебаться. По всем углам, вдоль стен, везде подымаются надгробные плиты, и сотни мертвецов в белых саванах начинают показываться из своих могил. Покойник окидывает бездушным ледяным взором всю церковь. Глаза его встречаются с глазами Лсвшипа: он подымает свою иссохшую руку, указывает на него пальцем — и вот вся толпа мертвецов, заскрежетав зубами, бросается прямо к нему, один из них хватает его за грудь… Он вскрикивает, и в ту же самую минуту подле него раздается знакомый голос: «Что ты, что ты, молодец?.. Это я!»
Левшин очнулся и вскочил.
— Эк ты как заспался! — продолжал поддьяк. — Не прогневайся, раненько я тебя бужу, да делать нечего; меня — прах бы их взял — еще ранее твоего разбудили, а теперь-то самый лучший сон и есть!.. За тобой, молодец, пришли от князя Ивана Андреевича.
— От князя Хованского?
— Ну, да! Там в прихожей дожидается тебя пятидесятник с двумя стрельцами! Пойдем, любезный!
Поддьяк сдал пятидесятнику своего арестанта, и когда вышел вслед за ним на крыльцо, то сказал: «Взгляни-ка, брат, сюда, налево!» Левшин обернулся. Почти рядом с земским приказом, на высоких подмостках, лежал труп человека, одетого в черное платье; подле, на окровавленной плахе, стояла отрубленная голова его. Это бледное, обезображенное лицо, на котором замерло судорожное выражение нестерпимой муки и отчаяния, было до того ужасно, что Левшин невольно отвернулся.
— Кто это? — спросил он вполголоса.
— Да вот этот расстрига, что так вчера храбровал, — отвечал поддьяк.
— Никита?
— Да! Никита Пустосвят.
«Боже мой! — подумал Левшин. — Давно ли этот мятежник, окруженный бесчисленной толпой народа, шел в Кремль, как торжествующий победитель, а теперь!.. Куда девались все его защитники?.. Он умер один — и труп его, выставленный на позор, брошен, покинут всеми!»
В самом деле, вся площадь была пуста; в нескольких шагах от места казни стояли вооруженные стрельцы; по временам останавливались прохожие и, взглянув издалека на казненного преступника, продолжали спокойно идти своею дорогою. Один только нищий в изорванном рубище, с распущенными по плечам волосами и непокрытой головой, стоял на подмостках подле казненного преступника; склонив над ним свою седую голову, он тихим голосом творил молитву, и слезы его капали на окровавленный труп. Этот нищий был Гриша.
— Ну, прощай, любезный! — сказал поддьяк, облобызав Левшина. — Дай Господи, чтоб все кончилось благополучно!.. Жаль мне тебя — видит Бог жаль?.. Парень ты добрый, а коли правду говорят, что ты изменник…
— Мне нечего бояться, — прервал Левшин, — совесть моя чиста.
— Совесть?.. Что совесть, любезный… Коли у тебя другой заступы нет, так дело-то плоховато!.. Конечно, Бог не без милости, — почем знать, может статься, пожалеют твою молодость… Только смотри, любезный, коли тебя не казнят, так не забудь, заверни опять сюда.
— Зачем?
— А вот зачем: ты говорил, что тебе давали за перстень пятнадцать рублей; ну, хочешь ли, друг сердечный… так и быть! Я тебе этот перстень за четырнадцать рублей уступлю?
— Хорошо, хорошо! — сказал Левшин, уходя вслед за своими провожатыми. Они вышли из Китай-города Каретными воротами и повернули налево.
— Куда вы меня ведете? — спросил Левшин.
— Куда велено, — отвечал пятидесятник.
— Да ведь, кажется, дом князя Ивана Андреевича Хованского не в этой стороне?
— Вестимо, не в этой. Он живет на Знаменке.
— Так мы идем не к нему?
— Нет.
— Куда же?
— А вот как придешь, так узнаешь.
Левшин замолчал. Дойдя до того места, где речка Неглинная впадает в Москву-реку, они поворотили направо, и когда, миновав церковь Ильи Обыденного и Зачатьевский монастырь, переправились Крымским бро-Дом на ту сторону реки, то Левшину не трудно было догадаться, что его ведут к боярину Кирилле Андреевичу Буйносову: он жил недалеко от Калужских ворот и, вероятно, один из всех ближних бояр не имел дома в Кремле, или, по крайней мере, в его окрестностях Подходя к этим брусяным хоромам, которые стояли в глубине обширного двора, Левшин увидел, что у ворот дожидается дворецкий боярина Буйносова. Пятидесятник сдал ему с рук в руки Левшина и отправился со своими стрельцами в обратный путь.
— Милости просим, Дмитрий Афанасьевич! — сказал дворецкий, отпирая калитку. — Боярин давно уже тебя дожидается. — Все твои пожитки, — продолжал он, идучи с Левшиным по двору, — перевезли сегодня к нам Уж не изволь опасаться, батюшка: синего пороха не пропадет!.. У нас, слава Богу, кладовых довольно.
— Да это, кажется, Ферапонт? — спросил Левшин.
— Вон что там у конюшни держит двух оседланных коней?.. Да, батюшка, это твой служитель.
Войдя по широкому крыльцу в обширные сени, в которых толпились человек двадцать боярских холопов, дворецкий отворил двери в первый покой и сказал:
— Пожалуй сюда, батюшка! Я пойду доложу о тебе боярину, а ты побеседуй покамест с его милостью, — прибавил он, указывая на Колобова, который кинулся на шею к своему приятелю и закричал:
— Здравствуй, Дмитрий Афанасьевич! Ну, слава тебе, Господи! Не чаял я видеть тебя живым.
— И ты здесь, Артемий Никифорович?
— Как же! Ты помнишь, мы вчера с тобой уговорились прийти сюда попозднее вечерком?.. Вот я этак в сумерки и отправился за тобой на Мещовское подворье; лишь только дошел до Зарядья, глядь — навстречу мне Архиповна бежит бегом, шушун нараспашку, — в попы-хах. «Куда бабушка?» — «В земский приказ». — «Зачем?»— «Управы просить!.. Душегубцы этакие! разбойники!., кнутобойцы!..» — «Да что такое?» — «Ограбили, батюшка, прибили до полусмерти моего Федотку!» — «Да кто?» — «А вот эти живодеры, кровопийцы, земские ярыжки!.. Ни за что, ни про что изувечили у меня парня!.. Да его же, за то, что он кричал, в земский приказ оттащили., воры этакие, висельники!..» — «А я, Архиповна, иду к тебе на подворье». — «Уж не к твоему ли крестовому братцу?»— «К нему». — «Ах, родной ты мой, да ведь его захватили стрельцы!» — «Как так? — «А вот как: пришли прежде него ко мне на подворье, засели по углам, и как твой крестовый братец вошел на двор — они его и цап-царап!» — «И увели с собой?» — «Увели, батюшка!.. Ну, узк перепуталась я!.. Экий денек! И стрельцы, и земские ярыжки!.. Да с ними-то я справлюсь! Слыханное ли дело: дневной грабеж!.. Нет, батюшка, я их доеду!.. Ударю на них челом боярину князю Львову; а коли он суда не даст, так я закричу «слово и дело»!., до царей дойду!.. Прощай, батюшка, прощай!» Я было хотел ее порасспросить хорошенько— куда! Моя старуха пустилась благим матом по улице, а я кинулся к боярину Кирилле Андреевичу, рассказал ему все; он отправился к князю Хованскому, а мне приказал перевести сюда все твои пожитки. Ну, брат Левшин, истинно Господь тебя помиловал! Вчера у нас в слободе один молодец, сотник полка Лопухина, сболтнул по-твоему, так его тут же уходили. Нет, брат, что Бог даст вперед, а теперь держи ухо востро!..