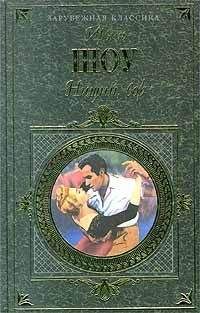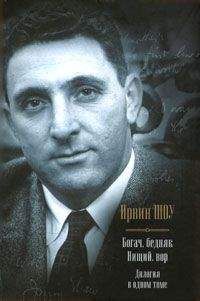А если бы он, Уэсли, не спал как младенец, то услышал бы шаги на палубе — отец их слышал сквозь любой сон, как бы ни устал и как бы крепко ни спал, — и, поднявшись, увидел бы, что отец один отправляется спасать Джин Джордах; он пошел бы вместе с ним, а может, заставил бы отца вызвать полицию или по крайней мере был рядом — тогда югослав понял бы, что драться бессмысленно.
Кого я обманываю? — думал Уэсли. Не случись это здесь, случилось бы в Портофино, на Эльбе или на Сицилии. Все равно Джин Джордах впуталась бы в какую-нибудь историю и втянула бы остальных. Она с самого начала ему не понравилась, он так и сказал отцу. А отец ответил: «Верно, человек она нелегкий. Я бы на ней не женился, но Руди мыслит по-иному. Она богатая, красивая, неглупая. — Он пожал плечами. — Наверное, приходится расплачиваться за то, что имеешь богатую, красивую, неглупую жену». Только расплачиваться-то пришлось его отцу. Отец не боялся за собственную жизнь, был чересчур уверен в себе. «Мне самому много досталось из-за женщин. — И, чуть грустно усмехнувшись в темноте, рассказал сыну про близняшек из Элизиума, штат Огайо, которые утверждали, что забеременели от него, когда его посадили в тюрьму по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних. — Теперь-то я думаю, — философски добавил Том, — может, это было и поделом, хотя в ту пору я так не считал. Мне, наверное, следовало предостеречь тебя, но ты бы вряд ли стал слушать, а, Уэсли?»
«Да я более или менее осторожен», — ответил Уэсли. Он уже в двух плаваниях имел дело с дамами, мужья которых тоже были на борту, о чем, он не сомневался, отец прекрасно знал.
«По-моему, тебе это дело нравится», — сухо заметил Том.
«Как всякому», — отозвался Уэсли.
«Мне тоже», — признался Том. Потом он стал вспоминать о мальчике, вместе с которым поджег крест на лужайке у дома Бойлана и который потом его выдал; о своем менеджере Шульце; о человеке, у которого он шантажом выманил пять тысяч долларов в Ревир-клубе; о Фальконетти, которого он высмеял в присутствии двадцати семи членов команды судна и довел до самоубийства. Он рассказывал о них обо всех, чувствуя, что подросток, истосковавшийся по отцу и наконец обретший его, может составить о нем ложное, идеализированное представление, которому он, Том, не в силах соответствовать, а потому должен скорректировать его, чтобы избавить сына от неизбежного и горького разочарования.
Его советы отличались практичностью: «Ты любишь море, вот и свяжи с ним свою жизнь. Тут и работа, и можно отдохнуть, и разнообразие, а не одно и то же все время, и ты на свежем воздухе. Рано или поздно у тебя будет „Клотильда“, а то и что-нибудь получше. И ты уже будешь знать про свое судно все-все и с удовольствием за ним ухаживать, как мы с Дуайером. И я советую тебе не путаться с пассажирками. — Том усмехнулся. Может, отцу и не положено говорить о таких вещах, но он не мог промолчать, видя повышенный интерес Уэсли к сексу. — Действуй самостоятельно, потому что нет хуже западни, чем вкалывать на другого. Изучи все. Сверху донизу. Тебе есть у кого учиться: у меня, у Кролика, у Кейт. Не экономь на оборудовании. Если тебе по какой-либо причине не по душе человек, которого ты нанял, ссади его в первом же порту. Если ты нашел у пассажира наркотики, выбрось их за борт без разговоров. По возможности не пей с пассажирами. Захочешь — вполне сможешь выпить на свои. Не жмотничай. Это сразу становится известно. Если тебе не нравится, как выглядит море, иди в порт и не слушай, что кто-то там опаздывает в Рим, Канн или Афины на важную деловую встречу или на свидание с девицей. Не ввязывайся в склоки. Не отступай, но сам на рожон не лезь…»
Надо было записать все это на пленку, подумал Уэсли, и каждый вечер перед сном прослушивать.
«Держи на борту оружие. На всякий случай. Под замком. Вдруг пригодится». Вот оно — завещание отца: «Не экономь на оборудовании и держи оружие при себе».
А где держат оружие на «Клотильде»? Кролик, наверное, знает, но черта с два скажет. Когда оно понадобилось, его под рукой не оказалось.
Отец продолжал что-то говорить во тьме, отгороженной решеткой. Голос его был спокойным, даже веселым, но слова стали неразборчивыми.
В затылке у Уэсли застучало, голос отца стихал, как звук буя, оставшегося в тумане за кормой, и он заснул.
Из записной книжки Билли Эббота (1968):
«У меня слабость к моему отцу, ибо он в свою очередь человек слабый. Его я простил. А вот к матери я слабости не испытываю, ибо она сильная женщина, и ее я не прощаю. Пусть археолог, которому суждено раскапывать руины Брюсселя в следующем столетии, поразмыслит над этим. Мы все часто думаем о своих родителях. А я — о своих двух отцах. Уильям Эббот, мой родной отец, был и, наверное, поныне остается веселым и очаровательным бездельником.
Колин Берк, второй муж моей матери, был блестящим, эгоистичным, талантливым человеком; он умел заставить актеров работать в полную силу, и экран у него полыхал огнем. Я любил его, восхищался им и мечтал, когда вырасту, стать таким же, как он. Не получилось. Я вырос похожим, к сожалению, на Вилли Эббота, хотя и лишен некоторых присущих ему привлекательных качеств. Его я тоже любил.
Сколько раз я укладывал его в постель пьяным.
Сегодня я на пари сыграл пять партий в теннис и все выиграл».
Он снова съездил в Ниццу в консульство, дважды побывал в тюрьме в Грасе, куда перевели Уэсли, и трижды сходил к адвокату. Консул смущался, но не мог посоветовать ничего определенного, а адвокат кое в чем помог. Чего не скажешь об Уэсли — этот молчал, раскаяния не испытывал, физически чувствовал себя неплохо и больше интересовался не собственной участью, а участью соседей по камере, один из которых воровал драгоценности, другой предъявлял краденые чеки, а третий занимался подделкой произведений искусства. Со времени ареста Уэсли не брился, оброс светлой густой щетиной и стал похож на волка; среди преступников он нисколько не выделялся. Когда он вошел, в маленькой комнате, где Рудольфу разрешили с ним побеседовать, запахло как в клетке у дикого зверя, которую плохо чистят. Этот запах перенес Рудольфа в прошлое, в комнату над пекарней, в постель, которую он делил с Томом, когда оба были подростками и когда Том являлся домой за полночь после драк на улице. Он вынул носовой платок и сделал вид, что сморкается; Уэсли, усмехаясь углом рта, уселся напротив него за некрашеным, поцарапанным столом старой провансальской работы, любезно предоставленным в их распоряжение полицией славящегося своими цветами города Граса.
Рудольф сделал серьезное лицо, чтобы мальчишка понял всю нешуточность своего положения. Полиция через адвоката дала Рудольфу знать, что случай этот непростой — пивную бутылку можно считать и опасным орудием — и что Уэсли в лучшем случае придется просидеть в тюрьме не меньше нескольких недель.
Рудольф также не раз звонил в Нью-Йорк своему адвокату Джонни Хиту, который сказал, что если он сумеет отделаться от французов, то дела Тома, по всей вероятности, можно будет уладить в Нью-Йорке — последнем, насколько известно, местожительстве покойного в Соединенных Штатах, — но что на это потребуется немало времени.
Нам суждено утонуть в бумагах, думал Рудольф. Он слушал разглагольствования Джонни Хита о том, что, скорее всего, суд назначит Кейт Джордах, жену покойного, несмотря на ее английское подданство, администратором наследства и что одна треть состояния, по всей вероятности, достанется ей, а две трети — сыну, хотя ее беременность осложняет дело, — и ему представлялось, как «Клотильда» со всеми пассажирами на борту идет ко дну в океане судебных документов, постановлений и распоряжений. Сыну, поскольку он несовершеннолетний, до восемнадцати лет положен опекун, и почему бы Рудольфу, как самому старшему и близкому из родственников мужского пола, не взять на себя эту обязанность? Имущество покойного, вероятно, придется ликвидировать, чтобы заплатить налог на наследство, а это значит, что в течение года «Клотильда» должна быть продана. Но, предупредил Хит, пока он ничего определенного сказать не может, необходимо кое с кем проконсультироваться.
Рудольф не сказал Уэсли о своих беседах с Хитом. Он просто спросил, не обижают ли его и что ему нужно. Уэсли равнодушно ответил, что к нему относятся как ко всем и что ему ничего не нужно. Непонятный молодой человек, возмущался Рудольф, и всегда он почему-то враждебно настроен. Из-за этого свои визиты в тюрьму Рудольф старался по возможности сократить.
Но когда он, усталый, возвращался в отель, его ждал не лучший прием. Даже худший, по правде говоря. Джин совсем перестала сдерживаться. Она рвалась домой, требовала, чтобы ее, как она выражалась, выпустили на свободу — вероятно, впервые за всю историю отель «Дю Кап» назвали тюрьмой. Почему-то она вбила себе в голову, что ее отъезд задерживается по вине Рудольфа, и, сколько он ни твердил ей, что ее паспорт в полиции, а не у него, она по-прежнему билась в истерике.