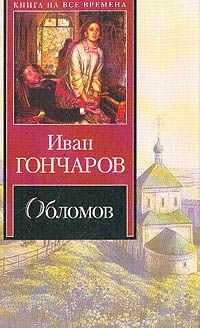Роль в обществе удалась было ему лучше.
В первые годы пребывания в Петербурге, в его ранние, молодые годы, покойные черты лица его оживлялись чаще, глаза подолгу сияли огнем жизни, из них лились лучи света, надежды, силы. Он волновался, как и все, надеялся, радовался пустякам и от пустяков же страдал. Но это все было давно, еще в ту нежную пору, когда человек во всяком другом человеке предполагает искреннего друга и влюбляется почти во всякую женщину и всякой готов предложить руку и сердце, что иным даже и удается совершить, часто к великому прискорбию потом на всю остальную жизнь.
В эти блаженные дни на долю Ильи Ильича тоже выпало немало мягких, бархатных, даже страстных взглядов из толпы красавиц, пропасть многообещающих улыбок, два-три непривилегированные поцелуя и еще больше дружеских рукопожатий, с болью до слез.
Впрочем, он никогда не отдавался в плен красавицам, никогда не был их рабом, даже очень прилежным поклонником, уже и потому, что к сближению с женщинами ведут большие хлопоты. Обломов больше ограничивался поклонением издали, на почтительном расстоянии.
Редко судьба сталкивала его с женщиною в обществе до такой степени, чтоб он мог вспыхнуть на несколько дней и почесть себя влюбленным. От этого его любовные интриги не разыгрывались в романы: они останавливались в самом начале и своею невинностью, простотой и чистотой не уступали повестям любви какой-нибудь пансионерки на возрасте.
Пуще всего он бегал тех бледных, печальных дев, большею частию с черными глазами, в которых светятся «мучительные дни и неправедные ночи», дев с неведомыми никому скорбями и радостями, у которых всегда есть что-то вверить, сказать, и когда надо сказать, они вздрагивают, заливаются внезапными слезами, потом вдруг обовьют шею друга руками, долго смотрят в глаза, потом на небо, говорят, что жизнь их обречена проклятию, и иногда падают в обморок. Он с боязнью обходил таких дев. Душа его была еще чиста и девственна, она, может быть, ждала своей любви, своей поры, своей патетической страсти, а потом, с годами, кажется, перестала ждать и отчаялась.
Илья Ильич еще холоднее простился с толпой друзей. Тотчас после первого письма старосты о недоимках и неурожае заменил он первого своего друга, повара, кухаркой, потом продал лошадей и, наконец, отпустил прочих «друзей».
Его почти ничто не влекло из дома, и он с каждым днем все крепче и постояннее водворялся в своей квартире.
Сначала ему тяжело стало пробыть целый день одетым, потом он ленился обедать в гостях, кроме коротко знакомых, больше холостых домов, где можно снять галстук, расстегнуть жилет и где можно даже «поваляться» или соснуть часок.
Вскоре и вечера надоели ему: надо надевать фрак, каждый день бриться.
Вычитал он где-то, что только утренние испарения полезны, а вечерние вредны, и стал бояться сырости.
Несмотря на все эти причуды, другу его, Штольцу, удавалось вытаскивать его в люди, но Штольц часто отлучался из Петербурга в Москву, в Нижний, в Крым, а потом и за границу — и без него Обломов опять ввергался весь по уши в свое одиночество и уединение, из которого могло его вывести только что-нибудь необыкновенное, выходящее из ряда ежедневных явлений жизни, но подобного ничего не было и не предвиделось впереди.
Ко всему этому с летами возвратилась какая-то ребяческая робость, ожидание опасности и зла от всего, что не встречалось в сфере его ежедневного быта, — следствие отвычки от разнообразных внешних явлений.
Его не пугала, например, трещина потолка в его спальне: он к ней привык, не приходило ему тоже в голову, что вечно спертый воздух в комнате и постоянное сиденье взаперти чуть ли не губительнее для здоровья, нежели ночная сырость, что переполнять ежедневно желудок есть своего рода постепенное самоубийство, но он к этому привык и не пугался.
Он не привык к движению, к жизни, к многолюдству и суете.
В тесной толпе ему было душно, в лодку он садился с неверною надеждою добраться благополучно до другого берега, в карете ехал, ожидая, что лошади понесут и разобьют.
Не то на него нападал нервический страх: он пугался окружающей его тишины или просто и сам не знал чего — у него побегут мурашки по телу. Он иногда боязливо косится на темный угол, ожидая, что воображение сыграет с ним штуку и покажет сверхъестественное явление.
Так разыгралась роль его в обществе. Лениво махнул он рукой на все юношеские, обманувшие его или обманутые им надежды, все нежно-грустные, светлые воспоминания, от которых у иных и под старость бьется сердце.
Что ж он делал дома? Читал? Писал? Учился?
Да: если попадется под руки книга, газета, он ее прочтет.
Услышит о каком-нибудь замечательном произведении — у него явится позыв познакомиться с ним, он ищет, просит книги, и если принесут скоро, он примется за нее, у него начнет формироваться идея о предмете, еще шаг — и он овладел бы им, а посмотришь, он уже лежит, глядя апатически в потолок, и книга лежит подле него недочитанная, непонятая.
Охлаждение овладевало им еще быстрее, нежели увлечение: он уже никогда не возвращался к покинутой книге.
Между тем он учился, как и другие, как все, то есть до пятнадцати лет, в пансионе, потом старики Обломовы, после долгой борьбы, решились послать Илюшу в Москву, где он волей-неволей проследил курс наук до конца.
Робкий, апатический характер мешал ему обнаруживать вполне свою лень и капризы в чужих людях, в школе, где не делали исключений в пользу балованых сынков. Он по необходимости сидел в классе прямо, слушал, что говорили учителя, потому что другого ничего делать было нельзя, и с трудом, с потом, со вздохами выучивал задаваемые ему уроки.
Все это вообще считал он за наказание, ниспосланное небом за наши грехи.
Дальше той строки, под которой учитель, задавая урок, проводил ногтем черту, он не заглядывал, расспросов никаких ему не делал и пояснений не требовал. Он довольствовался тем, что написано в тетрадке, и докучливого любопытства не обнаруживал, даже когда и не все понимал, что слушал и учил.
Если ему кое-как удавалось одолеть книгу, называемую статистикой, историей, политической экономией, он совершенно был доволен.
Когда же Штольц приносил ему книги, какие надо еще прочесть сверх выученного, Обломов долго глядел молча на него.
— И ты, Брут, против меня! — говорил он со вздохом, принимаясь за книги.
Неестественно и тяжело ему казалось такое неумеренное чтение.
Зачем же все эти тетрадки, на которые изведешь пропасть бумаги, времени и чернил? Зачем учебные книги? Зачем же, наконец, шесть-семь лет затворничества, все строгости, взыскания, сиденье и томленье над уроками, запрет бегать, шалить, веселиться, когда еще не все кончено?
«Когда же жить? — спрашивал он опять самого себя. — Когда же, наконец, пускать в оборот этот капитал знаний, из которых большая часть еще ни на что не понадобится в жизни? Политическая экономия, например, алгебра, геометрия — что я стану с ними делать в Обломовке?»
И сама история только в тоску повергает: учишь, читаешь, что вот-де настала година бедствий, несчастлив человек, вот собирается с силами, работает, гомозится, страшно терпит и трудится, все готовит ясные дни. Вот настали они — тут бы хоть сама история отдохнула: нет, опять появились тучи, опять здание рухнуло, опять работать, гомозиться… Не остановятся ясные дни, бегут — и все течет жизнь, все течет, все ломка да ломка.
Серьезное чтение утомляло его. Мыслителям не удалось расшевелить в нем жажду к умозрительным истинам.
Зато поэты задели его за живое: он стал юношей, как все. И для него настал счастливый, никому не изменяющий, всем улыбающийся момент жизни, расцветания сил, надежд на бытие, желания блага, доблести, деятельности, эпоха сильного биения сердца, пульса, трепета, восторженных речей и сладких слез. Ум и сердце просветлели: он стряхнул дремоту, душа запросила деятельности.
Штольц помог ему продлить этот момент, сколько возможно было для такой натуры, какова была натура его друга. Он поймал Обломова на поэтах и года полтора держал его под ферулой мысли и науки.
Пользуясь восторженным полетом молодой мечты, он в чтение поэтов вставлял другие цели, кроме наслаждения, строже указывал в дали пути своей и его жизни и увлекал в будущее. Оба волновались, плакали, давали друг другу торжественные обещания идти разумною и светлой дорогою.
Юношеский жар Штольца заражал Обломова, и он сгорал от жажды труда, далекой, но обаятельной цели.
Но цвет жизни распустился и не дал плодов. Обломов отрезвился и только изредка, по указанию Штольца, пожалуй, и прочитывал ту или другую книгу, но не вдруг, не торопясь, без жадности, а лениво пробегал глазами по строкам.
Как ни интересно было место, на котором он останавливался, но если на этом месте заставал его час обеда или сна, он клал книгу переплетом вверх и шел обедать или гасил свечу и ложился спать.