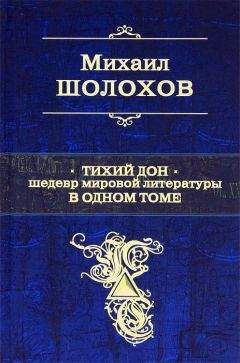Степан, сверкая одним глазом (другой затек опухолью цвета недоспелой сливы), отступал к крыльцу.
Разнял их Христоня, пришедший к Петру за уздечкой.
— Разойдись! — Он махнул клешнятыми руками. — Разойдись, а то к атаману!
Петро бережно выплюнул на ладонь кровь и половину зуба, сказал хрипло:
— Пойдем, Гришка. Мы его в однорядь подсидим…
— Нешто не попадешься ты мне! — грозил с крыльца подсиненный во многих местах Степан.
— Ладно, ладно!
— И без ладного душу с потрохами выну!
— Ты всурьез или шутейно?
Степан быстро сошел с крыльца. Гришка рванулся к нему навстречу, но Христоня, толкая его в калитку, пообещал:
— Только свяжись — измотаю, как цуцика!
С этого дня в калмыцкий узелок завязалась между Мелеховыми и Степаном Астаховым злоба.
Суждено было Григорию Мелехову развязывать этот узелок два года спустя в Восточной Пруссии, под городом Столыпином.
XV
— Петру скажи, чтобы запрягал кобылу и своего коня.
Григорий вышел на баз. Петро выкатывал из-под навеса сарая бричку.
— Батя велит запрягать кобылу и твоего.
— Без него знаем. Пущай заткнется! — направляя дышло, отозвался Петро.
Пантелей Прокофьевич, торжественный, как ктитор у обедни, дохлебывал щи, омывался горячим потом.
Дуняшка шустро оглядела Григория, где-то в тенистом холодке выгнутых ресниц припрятала девичий смешок-улыбку. Ильинична, кургузая и важная, в палевой праздничной шали, тая в углах губ материнскую тревогу, взглянула на Григория и — к старику:
— Будя тебе, Прокофьич, напихиваться. Чисто оголодал ты!
— Поисть не даст. То-то латоха!
В дверь просунул длинные пшенично-желтые усы Петро.
— Пжалте, фаитон подан.
Дуняшка прыснула смехом и закрылась рукавом.
Прошла через кухню Дарья, поиграла тонкими ободьями бровей, оглядывая жениха.
Свахой ехала двоюродная сестра Ильиничны, жох-баба, вдовая тетка Василиса. Она первая угнездилась в бричке, вертя круглой, как речной голыш, головой, посмеиваясь, из-под оборки губ показывая кривые черные зубы.
— Ты, Васенка, там-то не скалься, — предупредил ее Пантелей Прокофьевич, — могешь все дело испакостить через свою пасть… Зубы-то у тебя пьяные посажены в рот: один туда кривится, другой совсем наоборот даже…
— Эх, куманек, не за меня сватают-то. Не я женихом.
— Так-то так, а все ж таки не смеись. Даже уж зубы-то не того… Чернота одна, погано глядеть даже.
Василиса обижалась, а тем часом Петро расхлебенил ворота. Григорий разобрал пахучие ременные вожжи, вскочил на козлы. Пантелей Прокофьевич с Ильиничной — в заду брички рядком, ни дать ни взять — молодые.
— Кнута им ввали! — крикнул Петро, выпуская из рук поводья.
— Играй, черт! — Гришка куснул губу и — кнутом коня, перебиравшего ушами.
Лошади натянули постромки, резко взяли с места.
— Гляди! Зацепишься!.. — взвизгнула Дарья, но бричка круто вильнула и, подпрыгивая на придорожных кочках, затараторила вдоль по улице.
Свешиваясь набок, Григорий горячил кнутом игравшего в упряжке Петрова строевика. Пантелей Прокофьевич ладонью держал бороду, словно опасаясь, что подхватит и унесет ее ветер.
— Кобылу рубани! — ворочая по сторонам глазами, сипел он, наклоняясь к Григорьевой спине.
Ильинична кружевным рукавом кофты вытирала выжатую ветром слезинку, мигая, глядела, как на спине Григория трепещет, надуваясь от ветра горбом, сатиновая синяя рубаха. Встречные казаки сторонились, подолгу глядели вслед. Собаки, выскакивая из дворов, катились под ноги лошадям. Лая не было слышно за гулом заново ошиненных колес.
Григорий не жалел ни кнута, ни лошадей, и через десять минут хутор лег позади, у дороги зелено закружились сады последних дворов. Коршуновский просторный курень. Дощатый забор. Григорий дернул вожжи, и бричка, оборвав железный рассказ на полуслове, стала у крашеных, в мелкой резьбе, ворот.
Григорий остался у лошадей, а Пантелей Прокофьевич захромал к крыльцу. За ним в шелесте юбок поплыли красномаковая Ильинична и Василиса, неумолимо твердо спаявшая губы. Старик спешил, боясь утратить припасенную дорогой смелость. Он споткнулся о высокий порожек, зашиб хромую ногу и, морщась от боли, буйно затопотал по вымытым сходцам.
Вошел он в курень почти вместе с Ильиничной. Ему невыгодно было стоять рядом с женой, была она выше его на добрую четверть, поэтому он ступил от порога шаг вперед, поджав по-кочетиному ногу, и, скинув фуражку, перекрестился на черную, мутного письма икону:
— Здорово живете!
— Слава богу, — ответил, привстав с лавки, хозяин — невысокий конопатый престарелый казак.
— Принимай гостей, Мирон Григорьевич!
— Гостям завсегда рады. Марья, дай людям на что присесть.
Пожилая плоскогрудая хозяйка для виду обмахнула табуреты, подвинула их гостям. Пантелей Прокофьевич сел на краешек, вытирая утиркой взмокший смуглый лоб.
— А мы это к вам по делу, — начал он без обиняков.
В этом месте речи Ильинична и Василиса, подвернув юбки, тоже присели.
— Жалься: по какому такому делу? — улыбнулся хозяин.
Вошел Григорий. Зыркнул по сторонам.
— Здорово ночевали.
— Слава богу, — протяжно ответила хозяйка.
— Слава богу, — подтвердил и хозяин. Сквозь веснушки, устрекавшие его лицо, проступила коричневая краска: тут только догадался он, зачем приехали гости. — Скажи, чтоб коней ихних ввели на баз. Нехай им сена кинут, — обратился он к жене.
Та вышла.
— Дельце к вам по малости имеем… — продолжал Пантелей Прокофьевич. Он ворошил кудрявую смолу бороды, подергивал в волнении серьгу. — У вас — девка невеста, у нас — жених… Не снюхаемся ли, каким случаем? Узнать бы хотелось — будете ли вы ее выдавать зараз, нет ли? А то, может, и породнились бы?
— Кто же ее знает… — Хозяин почесал лысеющую голову. — Не думали, признаться, в нонешний мясоед выдавать. Тут делов пропастишша, а тут-таки и годков не дюже чтоб много. Осьмнадцатая весна только перешла. Так ить, Марья?
— Так будет.
— Теперича самое светок лазоревый, что ж держать, — аль мало перестарков в девках кулюкают? — выступила Василиса, ерзая по табурету (ее колол украденный в сенцах и сунутый под кофту веник: по приметам, сваты, укравшие у невесты веник, не получат отказа).
— За нашу наезжали сваты ишо на провесне. Наша не засидится. Девка — нечего бога-милостивца гневовать — всем взяла: что на полях, что дома…
— Попадется добрый человек, и выдать можно, — протиснулся Пантелей Прокофьевич в бабий трескучий разговор.
— Выдать не вопрос, — чесался хозяин, — выдать в любое время можно.
Пантелей Прокофьевич подумал, что им отказывают, — загорячился.
— Оно самой собой — дело хозяйское… Жених, он навроде старца, где хошь просит. А уж раз вы, к примеру, ищете, может, купецкого звания жениха аль ишо что, то уж, совсем наоборот, звиняйте.
Дело и сорвалось бы: Пантелей Прокофьевич пыхтел и наливался бураковым соком, невестина мать кудахтала, как наседка на тень коршуна, но в нужную минуту ввязалась Василиса. Посыпала мелкой тишайшей скороговоркой, будто солью на обожженное место, и связала разрыв.
— Что уж там, родимые мои! Раз дело такое зашло, значится, надо порешить его порядком и дитю своему на счастье… Хучь бы и Наталья — да таких-то девок по белу свету поискать! Работа варом в руках: что рукодельница! Что хозяйка! И собою, уж вы, люди добрые, сами видите. — Она разводила с приятной округлостью руками, обращаясь к Пантелею Прокофьевичу и надутой Ильиничне. — Он и женишок хучь куда. Гляну, ажник сердце в тоску вдарится, до чего ж на моего покойного Донюшку схож… и семейство ихнее шибко работящее. Прокофьевич-то — кинь по округе — всему свету звестный человек и благодетель… По доброму слову, аль мы детям своим супротивники и лиходеи?
Тек Пантелею Прокофьевичу в уши патокой свашенькин журчливый голосок. Слушал старик Мелехов и думал, восхищаясь: «Эк чешет, дьявол, языкастая! Скажи, как чулок вяжет. Петлюет — успевай разуметь, что и к чему. Иная баба забьет и казака разными словами… Ишь ты, моль в юбке!» — любовался он свахой, пластавшейся в похвалах невесте и невестиной родне, начиная с пятого колена.
— Чего и гутарить, зла мы дитю своему не желаем.
— Про то речь, что выдавать, кубыть, и рано, — миротворил хозяин, лоснясь улыбкой.
— Не рано! Истинный бог, не рано! — уговаривал его Пантелей Прокофьевич.
— Придется, рано ль, поздно ль, расставаться… — всхлипнула хозяйка полупритворно, полуискренне.