Свидание с обезглавленным. Глупость, которая уже сейчас казалась мне священной, потому что за нее пришлось платить дорогой ценой. Вчера перед кафе "Цонз" меня ожидал Неттлингер. Они привели меня на Вильхельмскуле, избили бичом из колючей проволоки, исполосовали мне всю спину; сквозь ржавые решетки на окнах я видел откос, где играл ребенком; мяч все время скатывался по склону, и я то и дело сползал вниз и подымал мяч, боязливо вглядываясь в ржавые решетки; у меня было такое чувство, будто там, за грязными стеклами, свершаются недобрые дела; Неттлингер живого места на мне не оставил.
В камере я попытался снять с себя рубаху, но рубаха и кожа были совершенно искромсаны, они превратились в сплошное месиво, и, когда я тянул за воротник и за рукава рубахи, мне казалось, что я через голову сдираю с себя кожу.
Нелегко даются такие мгновения; усталый, стоял я у балюстрады старой таможни, ощущая не столько гордость за то, что отмечен врагами, сколько боль; голова моя опустилась на перила, губы коснулись ржавых железных прутьев; было приятно ощущать во рту горечь старого железа; до Тришлеров – всего лишь минута ходу, там я узнаю, ожидают ли они меня. Я испугался: какой-то рабочий с котелком под мышкой шел вверх по улице, а потом скрылся в воротах лавки строительных материалов. Спускаясь по лестнице, я так крепко вцепился в перила, что к ладоням пристала ржавчина.
От веселого перестука клепальных молотков, который я слышал здесь семь лет назад, остался сейчас только слабый отголосок; всего лишь один молоток стучал на понтоне, где какой-то старик разбирал лодку: гайки, загремев, падали в коробку, доски ударялись о землю, и по стуку было ясно, что они совсем гнилые; старик выслушивал мотор так, как выслушивают сердце любимого существа; он низко нагибался, вытаскивая из лодки различные детали – болты, крышки, насадки; потом он поднял к свету цилиндр и, прежде чем бросить его в коробку с гайками, долго разглядывал и даже обнюхивал; за лодкой стоял старый ворот, на котором висел обрывок каната, гнилой, как истлевший чулок.
Воспоминания о людях и событиях были всегда связаны для меня с воспоминаниями о движениях, которые запечатлевались в моей памяти в виде геометрических фигур. Я помню, как перегнулся через балюстраду, как поднял и опустил голову, поднял и опустил, чтобы осмотреть улицу, – воспоминание обо всем этом вновь вызвало в моем сознании слова, краски, образы и ощущения. Я не вспомнил, как выглядел Ферди, зато я вспомнил, как он зажигал спичку, как он слегка откидывал голову, говоря "да-да", "нет-нет", вспомнил складки на лбу Шреллы и как он пожимал плечами, походку отца, жесты матери, движение, каким бабушка убирала волосы со лба; старик, на которого я смотрел с откоса, в этот миг сбивал с большого винта кусочки прогнившего дерева; то был отец Тришлера – эти движения были свойственны только ему одному; когда-то я наблюдал за ним, видел, как он вскрывал ящики и снова забивал их гвоздями; в ящиках была контрабанда, которая тайно переправлялась через границу в темном чреве пароходов, – ром и изюм, сигареты и шоколад; там, в трактире для грузчиков, эта рука делала движения, присущие ей одной. Старик поднял глаза, подмигнул мне и сказал:
– Послушай, сынок, ведь эта дорога никуда не ведет.
– Она ведет к вашему дому, – ответил я.
– Мои гости приезжают ко мне по воде, даже полиция, да и мой сын тоже приезжает на лодке, правда, он приезжает редко, очень редко.
– Полиция уже там?
– Почему ты об этом спрашиваешь, сынок?
– Потому что меня ищут.
– Ты что-нибудь украл?
– Нет, – сказал я, – просто я отказался принимать "причастие буйвола".
Корабли, думал я, корабли с темным чревом и капитаны, умеющие обманывать таможенников, я займу не много места, не больше, чем свернутый в трубку ковер; я хочу перебраться через границу, запрятанный в свернутый парус.
– Спускайся вниз, – сказал Тришлер, – наверху тебя могут увидеть с того берега.
Я повернулся и начал медленно скользить вниз к Тришлеру, цепляясь за траву.
– Ах, – сказал старик, – я знаю, кто ты, но запамятовал твое имя.
– Фемель, – сказал я.
– Ясно, тебя ищут, и сегодня утром даже объявили об этом по радио, я мог и сам догадаться, что речь идет о тебе, ведь они назвали твою примету – красный шрам на переносице; ты ударился головой о железный борт лодки во время паводка, когда мы переплывали через реку и налетели на доски моста, – я тогда не сообразил, что течение такое сильное.
– Да, и мне не разрешили больше здесь бывать.
– Но ты еще бывал здесь.
– Недолго, до тех пор, пока не поссорился с Алоизом.
– Пойдем, только смотри нагнись, когда будем проходить под разводным мостом, иначе опять набьешь себе шишку и тебе больше не разрешат здесь бывать. Как тебе удалось удрать от них?
– Неттлингер пришел на рассвете ко мне в камеру и вывел меня через подземный ход, который тянется до самой железнодорожной насыпи на Вильхельмскуле. Неттлингер сказал: "Сматывайся, беги! Но в твоем распоряжении только один час, через час я должен сообщить о тебе полиции", – мне пришлось петлять по всему городу, чтобы добраться сюда.
– Так, так, – сказал старик, – значит, вам приспичило бросать бомбы! Приспичило устраивать заговоры и… Вчера я уже переправил одного парня через границу.
– Вчера? – спросил я. – Кого?
– Шреллу, – сказал он, – он здесь скрывался, и я заставил его уехать на "Анне Катарине".
– Алоиз когда-то хотел стать рулевым на "Анне Катарине".
– Он и стал рулевым на "Анне Катарине"… а теперь пошли.
Когда мы пробирались по берегу вдоль наклонной стенки набережной к дому Тришлера, я споткнулся и упал, встал и опять упал, и еще раз встал; от толчков моя рубашка то отрывалась от кожи, то снова прилипала к ней и опять отрывалась; я невольно бередил свои раны и чуть было не потерял сознание от боли; в этом состоянии краски, запахи и движения, навеянные тысячей воспоминаний, смешивались воедино и наслаивались одно на другое, но боль вытесняла эти пестрые письмена, мелькавшие как в калейдоскопе.
Половодье, думал я, мне всегда хотелось броситься в разлившуюся реку и дать отнести себя к серому горизонту.
В забытьи меня долго мучил вопрос, можно ли спрятать в котелок бич из колючей проволоки; воспоминания о движениях превращались в линии; линии, соединяясь между собой, складывались в геометрические фигуры – зеленые, черные, красные, напоминали кардиограмму, изображающую биение человеческого сердца; взмах, которым Алоиз Тришлер вытаскивал свою удочку, когда мы ловили рыбу в Старой гавани, жест, которым он забрасывал в воду леску с наживкой, и жест, которым он указывал на быстрое течение, – все это было точной геометрической фигурой, нарисованной зеленым по серому; Неттлингер, подымающий руку, чтобы бросить Шрелле мяч в лицо, дрожь его губ, подергивание его ноздрей превратились в серую фигуру, похожую на паутину; казалось, какие-то самопишущие аппараты, неизвестно откуда взявшиеся, запечатлели в моей памяти образы различных людей: лицо Эдит вечером после игры в лапту, когда я шел домой со Шреллой, и оно же за городом в Блессенфельдском парке – тогда я смотрел на него сверху вниз, мы лежали в траве, и лицо ее было мокрым от теплого дождя, серебристые капли поблескивали на ее белокурых волосах и скатывались по бровям, лицо Эдит дышало, а вместе с ним подымалась и опускалась корона из серебристых капель. Эта корона в моих воспоминаниях походила на скелет диковинного морского животного, найденный на песке ржавого цвета, или на бесчисленные облачка одной и той же величины; я вспомнил линию ее губ, когда она говорила мне: "Они тебя убьют". То была Эдит.
В забытьи меня мучил также потерянный школьный портфель, ведь я всегда был так аккуратен; то я выхватывал серо-зеленый том Овидия из клюва тощей курицы, то препирался с билетершей в кино из-за стихотворения Гельдерлина, которое она вырвала из моей хрестоматии, так как оно ей очень понравилось: "И сострадая, сердце всевышнего твердым останется".
Ужин, принесенный госпожой Тришлер, – стакан молока, яйцо, хлеб и яблоко; госпожа Тришлер обмыла вином мою истерзанную спину; ее руки были проворны, словно руки молодой девушки; боль вспыхнула во мне с новой силой, когда она выжимала губку с вином и вино текло по моей иссеченной спине; а потом она принялась лить на нее масло.
– Откуда вы знаете, что так надо? – спросил я.
– Можешь прочесть в Библии, как это делают, – сказала она, – я уже обмывала раны твоему другу Шрелле! Алоиз послезавтра будет здесь, а в воскресенье он пойдет из Рурорта в Роттердам. Будь спокоен, – сказала она, – уж они все устроят; на реке люди знают друг друга, как будто век прожили на одной улице. Хочешь еще молока, дружок?
– Нет, спасибо.
– Не бойся, в понедельник или во вторник ты уже будешь в Роттердаме. Что такое, что с тобой?
Ничего, ничего. Меня все еще разыскивали по красному шраму на переносице. Отец, мать, Эдит: я не хотел ни определять степень моей нежности к ним, ни изливать свою тоску по этим людям в бесконечных жалобах; я смотрел на веселую реку с белыми праздничными пароходами и пестрыми вымпелами; веселыми казались даже грузовые суда – красные, зеленые, синие, – они сновали взад и вперед, груженные углем и дровами; на том берегу виднелась зеленая аллея и белоснежная терраса кафе "Бельвю", а за ними – башня Святого Северина и красная световая реклама на отеле "Принц Генрих". Оттуда было всего сто шагов до дома моих родителей; как раз сейчас они садились за ужин, за грандиозную трапезу; во главе стола, подобно патриарху, восседал мой отец; субботу у нас справляли с субботней торжественностью; и мать беспокоилась: не слишком ли остыло красное вино и достаточно ли охлаждено белое.

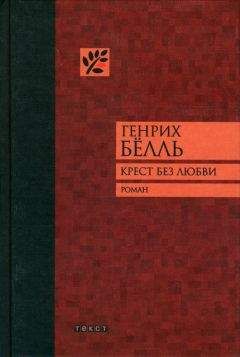
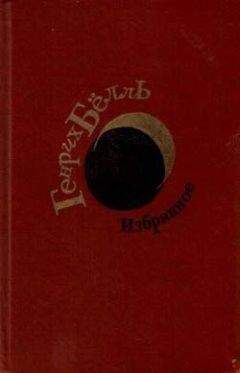


![Генрих Бёлль - Избранное [ Ирландский дневник; Бильярд в половине десятого; Глазами клоуна; Потерянная честь Катарины Блюм.Рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/113915/113915.jpg)