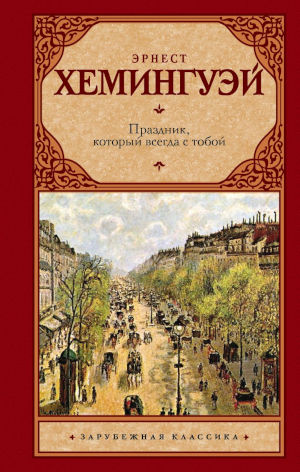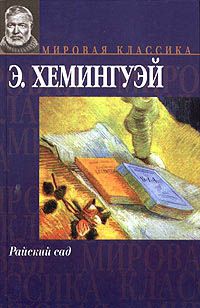до самой площади, где три ресторана.
Пока доберешься до дома двенадцать по улице Одеон, голод уже притупится, зато восприятие снова обостряется. Фотографии кажутся другими, и ты видишь книги, которых прежде никогда не замечал.
— Вы что-то похудели, Хемингуэй, — сказала Сильвия. — Вы хорошо питаетесь?
— Конечно.
— Что вы ели на обед?
Меня мутило от голода, но я ответил:
— Я как раз иду домой обедать.
— В три-то часа?
— Я не заметил, что так поздно.
— На днях Адриенна сказала, что хочет пригласить вас с Хэдли на ужин. Мы бы позвали Фарга. Вам он, кажется, симпатичен? Или Ларбо. Он вам, бесспорно, нравится. Я знаю, что нравится. Или еще кого-нибудь, кто вам по-настоящему по душе. Поговорите с Хэдли, хорошо?
— Я уверен, она с удовольствием пойдет.
— Я пошлю ей pneu [19]. И не работайте так много, раз вы едите кое-как.
— Не буду.
— Ну, идите домой, а то опоздаете к обеду.
— Ничего, мне оставят.
— Только не ешьте ничего холодного. Хороший горячий обед — вот что вам нужно.
— Мне есть письма?
— По-моему, нет. Впрочем, сейчас посмотрю.
Она посмотрела, нашла письмо, весело мне улыбнулась и отперла ящик своей конторки.
— Письмо принесли в мое отсутствие, — сказала она.
Я взял конверт — на ощупь в нем были деньги.
— От Веддеркопа, — сказала Сильвия.
— Должно быть, из журнала «Квершнитт». Вы виделись с Веддеркопом?
— Нет. Но он заходил сюда с Джорджем. Он повидается с вами, не беспокойтесь. Наверно, он хотел сначала заплатить вам.
— Здесь шестьсот франков. Он пишет, что это еще не все.
— Как хорошо, что вы спросили меня про письма. До чего же он милый, этот мистер Очень Приятно!
— Чертовски забавно, что мои вещи покупают только в Германии. Он да еще «Франкфуртер цейтунг».
— Правда, забавно. Но не стоит огорчаться. Можете продать свои рассказы Форду, — поддразнила она меня.
— По тридцать франков за страницу. Скажем, по рассказу раз в три месяца в «Трансатлантик». Значит, за рассказ в пять страниц — сто пятьдесят франков в квартал, иначе говоря, шестьсот франков в год.
— Слушайте, Хемингуэй, не думайте о том, сколько вам за них сейчас платят. Важно то, что вы можете их писать.
— Знаю. Я могу писать рассказы. Но ведь их никто не берет. С тех пор как я бросил журналистику, я ничего не зарабатываю.
— Не огорчайтесь, их еще купят. Смотрите, за один вы ведь уже получили.
— Извините, Сильвия. Простите, что я заговорил об этом.
— За что же извиняться? Говорите, сколько угодно, и об этом, и о чем хотите. Разве вы не знаете, что писатели только и говорят что о своих бедах? Но обещайте мне, что перестанете волноваться и будете питаться как следует.
— Обещаю.
— Тогда отправляйтесь домой обедать.
Выйдя из лавки на улицу Одеон, я почувствовал отвращение к себе за эти жалобы. Всему виной моя собственная глупость. Надо было купить большой ломоть хлеба и съесть его, вместо того чтобы ходить голодным. Я даже почувствовал вкус румяной, хрустящей корочки. Но ее надо чем-то запить. «Ах ты, чертов нытик, вздумал корчить из себя святого мученика! — сказал я себе. — Ты бросил журналистику по доброй воле. У тебя есть кредит, и Сильвия всегда одолжила бы тебе денег. Так уже не раз бывало. Тут и сомневаться нечего. Но ты все стараешься найти себе оправдание. Голод полезен для здоровья, и картины действительно смотрятся лучше на пустой желудок. Но еда тоже чудесная штука, и знаешь ли ты, где будешь сейчас обедать?
У Липпа — вот ты где будешь есть. И пить тоже.»
До Липпа было недалеко, и все те места на пути к нему, которые мой желудок замечал так же быстро, как глаза или нос, теперь делали этот путь особенно приятным. В brasserie [20] было пусто, и, когда я сел за столик у стены, спиной к зеркалу, и официант спросил, подать ли мне пива, я заказал distingué — большую стеклянную литровую кружку — и картофельный салат.
Пиво оказалось очень холодным, и пить его было необыкновенно приятно. Картофельный салат был хорошо приготовлен и приправлен уксусом и красным перцем, а оливковое масло было превосходным. Я посыпал салат черным перцем и обмакнул хлеб в оливковое масло. После первого жадного глотка пива я стал есть и пить не торопясь. Когда с салатом было покончено, я заказал еще порцию, а также cervelas — большую толстую сосиску, разрезанную вдоль на две части и политую особым горчичным соусом.
Я собрал хлебом все масло и весь соус и медленно потягивал пиво, но оно уже не было таким холодным, и тогда, допив его, я заказал поллитровую кружку и смотрел, как она наполнялась. Пиво показалось мне холоднее, чем прежде, и я выпил половину.
«Вовсе я не волнуюсь», — думал я. Я знал, что мои рассказы хороши и что рано или поздно кто-нибудь напечатает их и на родине. Отказываясь от газетной работы, я не сомневался, что рассказы будут опубликованы. Но один за другим они возвращались ко мне. Моя уверенность объяснялась тем, что Эдвард О’Брайен включил рассказ «Мой старик» в сборник «Лучшие рассказы года» и посвятит этот сборник мне. Я рассмеялся и отхлебнул из кружки пива. Этот рассказ не был напечатан ни в одном журнале, и О’Брайен поместил его в сборник вопреки всем своим правилам. Я снова рассмеялся, и официант взглянул на меня. Смешно мне было потому, что при всем том мою фамилию он написал неправильно. Это был один из двух рассказов, оставшихся у меня после того, как все написанное мною было украдено у Хэдли на Лионском вокзале вместе с чемоданом, в котором она везла все мои рукописи в Лозанну, чтобы устроить мне сюрприз — дать возможность поработать над ними во время нашего отдыха в горах. Она уложила в папки оригиналы, машинописные экземпляры и все копии. Рассказ, о котором идет речь, сохранился только потому, что Линкольн Стеффенс отправил его какому-то редактору, а тот отослал его обратно. Все остальные рассказы украли, а этот лежал на почте. Второй рассказ, «У нас в Мичигане», был написан до того, как у нас в доме побывала мисс Стайн. Я так и не перепечатал его на машинке, потому что она объявила его inaccrochable. Он завалялся в одном из ящиков стола.
И вот, когда