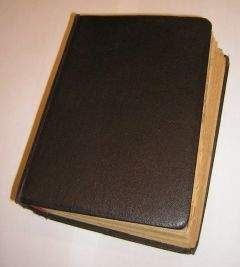Аптекарь был большой чудак. Он собирал старые горшки и прочую дребедень, набрал прямо-таки целый музей. А этот самый домажлицкий Гаек позвал в гости своего приятеля, который тоже писал в газеты. Ну нализались они что надо, так как уже целую неделю не виделись. И тот ему обещал за угощение написать фельетон в эту самую «Независимость», в независимый журнал, от которого он зависел. Ну и написал фельетон про одного коллекционера, который в песке на берегу Лабы нашел старый железный ночной горшок и, приняв его за шлем святого Вацлава, поднял такой шум, что посмотреть на этот шлем прибыл с процессией и с хоругвями епископ Бриних из Градца. Подебрадский аптекарь решил, что это намек, и подал на Гаека в суд.
Подпоручик с большим удовольствием столкнул бы Швейка вниз, но сдержался и заорал на всех:
— Говорю вам, не глазеть тут попусту! Вы все меля еще не знаете, но вы меня узнаете! Вы останетесь здесь, Швейк, — приказал он грозно, когда Швейк вместе с остальными направился к вагону.
Они остались с глазу на глаз. Подпоручик Дуб размышлял, что бы такое сказать пострашнее, но Швейк опередил его:
— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, хорошо, если удержится такая погода. Днем не слишком жарко, а ночи очень приятные. Самое подходящее время для военных действий.
Подпоручик Дуб вытащил револьвер и спросил:
— Знаешь, что это такое?
— Так точно, господин лейтенант, знаю. У нашего обер-лейтенанта Лукаша точь-в-точь такой же.
— Так запомни, мерзавец, — строго и с достоинством сказал подпоручик Дуб, снова пряча револьвер. — Знай, что дело кончится очень плохо, если ты и впредь будешь вести свою пропаганду.
Уходя, подпоручик Дуб довольно повторял про себя: «Это я ему хорошо сказал: про-па-ган-ду, да, про-па-ган-ду!..»
Прежде чем влезть в вагон, Швейк прошелся немного, ворча себе под нос:
— Куда же мне его зачислить? — И чем дальше, тем отчетливее в сознании Швейка возникало прозвище «полупердун».
В военном лексиконе слово «пердун» издавна пользовалось особой любовью. Это почетное наименование относилось главным образом к полковникам или пожилым капитанам и майорам. «Пердун» было следующей ступенью прозвища «дрянной старикашка»… Без этого эпитета слово «старикашка» было ласкательным обозначением старого полковника или майора, который часто орал, но любил своих солдат и не давал их в обиду другим полкам, особенно когда дело касалось чужих патрулей, которые вытаскивали солдат его части из кабаков, если те засиживались сверх положенного времени. «Старикашка» заботился о солдатах, следил, чтобы обед был хороший. Однако у «старикашки» непременно должен быть какой-нибудь конек. Как сядет на него, так и поехал! За это его и прозывали «старикашкой».
Но если «старикашка» понапрасну придирался к солдатам и унтерам, выдумывал ночные учения и тому подобные штуки, то он становился из просто «старикашки» «паршивым старикашкой» или «дрянным старикашкой».
Высшая ступень непорядочности, придирчивости и глупости обозначалась словом «пердун». Это слово заключало все. Но между «штатским пердуном» и «военным пердуном» была большая разница.
Первый, штатский, тоже является начальством, в учреждениях так его называют обычно курьеры и чиновники. Это филистер-бюрократ, который распекает, например, за то, что черновик недостаточно высушен промокательной бумагой и т. п. Это исключительный идиот и скотина, осел, который строит из себя умного, делает вид, что все понимает, все умеет объяснить, и к тому же на всех обижается.
Кто был на военной службе, понимает, конечно, разницу между этим типом и «пердуном» в военном мундире. Здесь это слово обозначало «старикашку», который был настоящим «паршивым старикашкой», всегда лез на рожон и тем не менее останавливался перед каждым препятствием. Солдат он не любил, безуспешно воевал с ними, не снискал у них того авторитета, которым пользовался просто «старикашка» и отчасти «паршивый старикашка».
В некоторых гарнизонах, как, например, в Тренто, вместо «пердуна» говорили «наш старый нужник». Во всех этих случаях дело шло о человеке пожилом, и если Швейк мысленно назвал подпоручика Дуба «полупердуном», то поступил вполне логично, так как и по возрасту, и по чину, и вообще по всему прочему подпоручику Дубу до «пердуна» не хватало еще пятидесяти процентов.
Возвращаясь с этими мыслями к своему вагону, Швейк встретил денщика Кунерта. Щека у Кунерта распухла, он невразумительно пробормотал, что недавно у него произошло столкновение с господином подпоручиком Дубом, который ни с того ни с сего надавал ему оплеух: у него, мол, имеются определенные доказательства, что Кунерт поддерживает связь со Швейком.
— В таком случае, — рассудил Швейк, — идем подавать рапорт. Австрийский солдат обязан сносить оплеухи только в определенных случаях. Твой хозяин переступил все границы, как говаривал старый Евгений Савойский: «От сих до сих». Теперь ты обязан идти с рапортом, а если не пойдешь, так я сам надаю тебе оплеух. Тогда будешь знать, что такое воинская дисциплина. В Карлинских казармах был у нас лейтенант по фамилии Гауснер. У него тоже был денщик, которого он бил по морде и награждал пинками. Как-то раз он так набил морду этому денщику, что тот совершенно обалдел и пошел с рапортом, а при рапорте все перепутал и сказал, что ему надавали пинков. Ну, лейтенант доказал, что солдат врет: в тот день он никаких пинков ему не давал, бил только по морде. Конечно, разлюбезного денщика за ложное донесение посадили на три недели. Однако это дела не меняет, — продолжал Швейк. — Ведь это как раз то самое, что любил повторять студент-медик Гоубичка. Он говорил, что все равно, кого вскрыть в анатомическом театре, человека, который повесился или который отравился. Я иду с тобой. Пара пощечин на военной службе много значит.
Кунерт совершенно обалдел и поплелся за Швейком к штабному вагону.
Подпоручик Дуб, высовываясь из окна, заорал:
— Что вам здесь нужно, негодяи?
— Держись с достоинством, — советовал Швейк Кунерту, вталкивая его в вагон.
В коридор вагона вошел поручик Лукаш, а за ним капитан Сагнер.
Поручик Лукаш, переживший столько неприятностей из-за Швейка, был очень удивлен, ибо лицо Швейка утратило обычное добродушие и не имело знакомого всем милого выражения. Скорее наоборот, на нем было написано, что произошли новые неприятные события.
— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — сказал Швейк, — дело идет о рапорте.
— Только, пожалуйста, не валяй дурака, Швейк! Мне это уже надоело.
— С вашего разрешения, я ординарец вашей маршевой роты, а вы, с вашего разрешения, изволите быть командиром одиннадцатой роты. Я знаю, это выглядит очень странно, но я знаю также и то, что господин лейтенант Дуб подчинен вам.
— Вы, Швейк, окончательно спятили! — прервал его поручик Лукаш. — Вы пьяны и лучше всего сделаете, если уйдете отсюда. Понимаешь, дурак, скотина?!
— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — сказал Швейк, подталкивая вперед Кунерта, — это похоже на то, как однажды в Праге испытывали защитную решетку, чтоб никого не переехало трамваем. В жертву принес себя сам изобретатель, а потом городу пришлось платить его вдове возмещение.
Капитан Сагнер, не зная, что сказать, кивал в знак согласия головой, в то время как лицо у поручика Лукаша выражало полнейшее отчаяние.
— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, обо всем следует рапортовать, — неумолимо продолжал Швейк. — Еще в Бруке вы говорили мне, господин обер-лейтенант, что уж если я стал ординарцем роты, то у меня есть и другие обязанности, кроме всяких приказов. Я должен быть информирован обо всем, что происходит в роте. На основании этого распоряжения я позволю себе доложить вам, господин обер-лейтенант, что господин лейтенант Дуб ни с того ни с сего надавал пощечин своему денщику. Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я об этом и говорить бы не стал, но раз господин лейтенант Дуб является вашим подчиненным, я решил, что мне следует рапортовать.
— Странная история, — задумался капитан Сагнер. — Почему вы все время, Швейк, подталкиваете к нам Кунерта?
— Осмелюсь доложить, господин батальонный командир, обо всем следует рапортовать. Он глуп, ему господин лейтенант Дуб набил морду, а ему совестно одному идти с рапортом. Господин капитан, извольте только взглянуть, как у него трясутся колени, он еле жив, оттого что должен идти с рапортом. Не будь меня, он никогда не решился бы пойти с рапортом. Вроде того Куделя из Бытоухова, который на действительной службе до тех пор ходил на рапорт, пока его не перевели во флот, где он дослужился до корнета, потом на каком-то острове в Тихом океане был объявлен дезертиром. Потом он там женился и беседовал как-то с путешественником Гавласой, который никак не мог отличить его от туземца. Вообще очень печально, когда из-за каких-то идиотских пощечин приходится идти на рапорт. Он вообще не хотел сюда идти, говорил, что сюда не пойдет. Он получил этих оплеух столько, что теперь даже не знает, о которой оплеухе идет речь. Он сам никогда бы не пошел сюда и вообще не хотел идти на рапорт. Он и впредь позволит себя избивать сколько влезет. Осмелюсь доложить, господин капитан, посмотрите на него: он со страху обделался. С другой же стороны, он должен был тотчас же пожаловаться, потому что получил несколько пощечин. Но он не отважился, так как знал, что лучше, как писал один поэт, быть «скромной фиалкой». Он ведь состоит денщиком у господина лейтенанта Дуба.