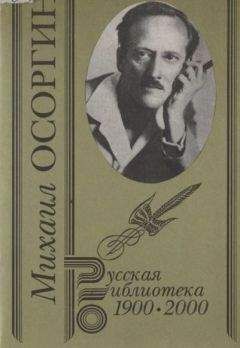— Это ты, сволочь, моего брата убил?
Жекмаки даже обиделся:
— Как так убил? Я никого не убивал, не тот человек. Я приговоры исполняю.
— Ты и меня так убьешь!
— Ежели вы заслужите и прикажут, будет и с вами то же.
Иначе Жекмаки и ответить не мог; ответил достойно, как честно правительству служащий, нужный человек.
И, однако, пришлось ему со службы уйти — очень Херхулидзе преследовал, а мог свободно и впутать его в какую-нибудь историю, так что и сам окажешься на веревочке. По сыскным делам, да еще в такое тревожное время, человека запутать ничего не стоит, потому что часто и разобраться невозможно, кто сыщик, а кто и сам бандит. И Жекмаки предпочел на время устраниться ото всяких дел и даже скрывался.
Херхулидзе между тем выслужился и был назначен на пост и ответственный, и более покойный — приставом перекопского участка, почти военным человеком и у начальства на виду. Жекмаки попробовал вернуться в сыскное, но уж на этот раз по вольному найму. Работы по специальности стало в то время меньше, кого нужно — перевешали, год подошел 1913-й, сравнительно спокойный. По вольному найму жалованья положили только 25 рублей — это человеку с такими заслугами!
Но и на эти деньги жить было бы можно, так как у каждого к сыску прикосновенного человека бывают доходы случайные, так сказать — от удачного и заботливого ведения дел. Однако Херхулидзе, человек злопамятный, решил и тут погубить «исполнителя» своего брата: дал о нем такой отзыв, по которому выходило, что правильнее всего его, Жекмаки, отправить прямым путем на каторгу.
Вот что делает злоба человеческая! Доносить дурное про заслуженную личность, собственноручно повесившую триста человек! Конечно, мог Алексей Иванович защищаться и доказывать, что никаких темных дел за ним нет и быть не может, что служил он честно и исполнительно и ничего, кроме всеобщего уважения, не заслуживает. Но бороться с влиятельным человеком, с приставом, нечего и думать, — лучше тихонько смыться и поискать правды в другом месте. И уж где же искать правды, как не в Петербурге, как не у самых сильных людей?
И Жекмаки отправился в Петербург, прежде всего — в департамент полиции. Там люди всегда были нужны — но люди с тонким образованием, которые не ударили бы лицом в грязь в самом избранном обществе: осведомители, секретные сотрудники. Жекмаки был простой человек, без светского разговора, годный только в исполнители. И все же по первому его обращению департамент не отказал ему во временном пособии — выдал 50 рублей. Долго в столице на такую сумму не просуществуешь. Откровенно говоря, дешево ценили у нас доблестных работников! Дать 50 рублей вознаграждения — это выходит как бы по 17 копеек за голову, не считая других услуг.
Жекмаки купил лист бумаги и написал не то прошение, не то личное письмо старому начальнику, бывшему одесскому градоначальнику, а потом заседавшему в Сенате. Конечно, разница в положении между ним, отставным сыщиком — исполнителем приговоров, и блестящим сенатором — огромна; однако работали вместе, над одним делом, в полном согласии, каждый свою часть исполняя.
И нужно сказать, что бывший градоначальник не оставил вниманием старого товарища и вступился за него. Он просил весьма известного Степана Петровича Белецкого позаботиться о Жекмаки, предстательствовать за него у нового одесского градоначальника и рекомендовать ему опытного исполнителя с самой лучшей стороны.
Строки из письма Белецкого:
«N. N. принимая особое участие в судьбе Жекмаки и всячески желая помочь ему ныне в его безвыходном положении, между прочим, оттеняем то обстоятельство, что Жекмаки в смутный период 1906–1908 гг. оказывал весьма ценные услуги в деле ликвидации в Одессе судебными приговорами к высшей мере наказания, назначаемого военно-полевыми судами».
Официальный язык обладает прекрасной способностью смягчать грубые понятия. Слово «палач» невыносимо, как и слово «убийство»; плохо звучит и «казнь» — между тем как «ликвидация приговором» и «высшая мера наказания» не оскорбляют чувствительного уха.
Но если легко смягчить понятия на бумаге, — далеко не так просто отмахнуться от живого видения. Оно заходит не без робости и просит доложить о себе. Не принять его невозможно — как-то жутко отказать в этом человеку, удалившему из жизни триста человек. Человек оказывается потрепанным, приниженным, уважительным к начальству. Он, конечно, не осмеливается протянуть руку, исполнявшую приговоры, — он прячет ее за спиной. Но он говорит:
— Окажите милость, ваше превосходительство, не дайте погибнуть с голоду! Сколько годов сряду работал, всякое ваше приказание исполнял аккуратно. Вот, извольте посмотреть списочек, ваше превосходительство…
И он вынимает и протягивает засаленную тетрадочку, некоторым образом — дневник совместных с его превосходительством занятий. Никакой литературы — простой перечень:
«4 августа — Савочкин, Шмановский Хуна, Боржиков, Барон Сруль, Ройтман Нахман. 13 августа — Грабовский Станислав, Бойко Роман. 26 августа — Козленко Яков, Козликов Янкель, Поганасянц, Яценко Архип, Демченко Дмитрий…»
Иногда же без имен, просто: «Солдаты», «За ограбление 14 тысяч», «10 за побег из тюрьмы», «8 то же».
Он носит свою тетрадочку в кармане у сердца — как почетный послужной список. Но его превосходительство брезглив к тетрадочке и не смотрит в лицо впавшему в несчастье сослуживцу. Его превосходительство готов все сделать, оказать всяческую поддержку, только бы ушел этот странный и страшный человек, руки которого, опять спрятанные за спину, вероятно, потны и волосаты, тогда как белы и выхолены руки его превосходительства, ни разу не коснувшиеся веревки.
Он вздыхает облегченно, когда палач выходит из приемной. Следовало бы отворить окно — оздоровить воздух, отравленный грязным дыханием. Увы! — защита интересов страны сопряжена с тяжкими необходимостями! И, как это ни ужасно, приходится прибегать к услугам субъектов, так сказать, отрицательного порядка…
И он говорит секретарю:
— Пожалуйста, напишите там, чтобы этому, вот который был, оказали помощь и выдали бы на проезд… и вообще…
Требует хороший тон время от времени хоронить Россию. Я даже сделал тетрадочку, и в тетрадочке выписки и вырезки. Из собранного материала ясно, что России больше нет, а есть разоренный и зараженный сифилисом край с безнравственным населением, вымирающим от эпидемий. На полях ничто не растет, в городах ничего не потребляется, а только ходят голые люди с надписью на ленточках: «Долой стыд». Несогласных расстреливают, а самих голых людей Семашки садят в участок. Так никто и не понимает, как дальше поступать. Больше ничего нет, в том числе и водопроводов. Почту из Лиссабона в Стокгольм посылают на просмотр в Москву; делает это Савинков, нынешний глава ГПУ, издающий в Париже газету на эсперанто. И еще много интересного, но печального. Большевики совершенно бессильны, но всесильны; скоро падут, но продержатся, вероятно, долго. Народ же взволнован манифестом императора Кирилла и интервью «Вечернего Времени» с адъютантом Николая Николаевича.
Печатному слову нельзя не верить: сами пишем и печатаем. Что-нибудь да уж правда! Куда же, однако, делась Россия? Леса, реки, горы, человеки?
Под самой Москвой были такие леса, что на верхушках солнце, а небо снизу кажется черным. И у ствола деревьев зеленый полумрак и прохлада, и шепоты, и дятел долбит клювом, и белка швыряется скорлупками. Но знавал я и леса севера. Только опушки знавал; опушка — сотни верст вглубь, а самый лес идет на тысячи, где его узнаешь! Конца там лесам нет. Конца им быть не может.
И реки. По эту сторону Урала несравненная Кама и соперница ее Волга. На Каме, за Пьяным Бором (имя какое!), поворот в устье Белой, где вдоль берега буки и вязы шириной в три дружеских объятия. Под самой Пермью, помню, села на мель белуга, мужики ее кольями добивали. Везли на трех подводах. Набили белужьим мясом все колбасные города, только мясо дрянь, старое.
Кто любит на лодочке и владеет удочкой, для того с реки Белой поворот на Дёму (за Уфой, близ моста). По Ивану Сергеевичу Аксакову,[269] поэту рыбной ловли, всей России известна. Когда вода на Дёме сбывает, вылезают со дна коряги, ночью похожие на чертей. На каждой коряге с удобством рассядется человек десять, с неудобством пятнадцать. Иных и половодье не сдвинет — совсем каменные стали. О коряги Дёма плещется, не речка — злость, не вода — мороз, не красота — душа растворенная. Это я помню с детства, может быть, преувеличил, да ведь не удержишься.
А за Уралом — Лена, Енисей. Рыба там максун и сырок. Хоть в рыбе-то вы что-нибудь понимаете?
В студенческие годы, в год дважды, переваливал я через Урал. Знаю Италию, знаю Швейцарию, знаю Черногорию, бывал в Норвегии. Но лишь потому знаю горы, что видал Урал. По Луньевской ветке катался. Швейцария — открытка, а там настоящее. Хороша Юнг-Фрау, не плохи черногорские орлиные гнезда, и Великий Камень Италии не плох. У нас же на Урале есть гора под названием Благость. Вот тут и попробуй удержаться от сердечного трепета. Это она-то умерла? Троцкий ее съел!