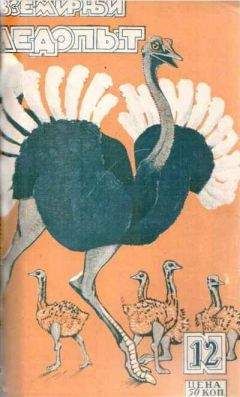Но Синцов, остановись в двух шагах и приложив руку к пилотке, отчеканил служебным голосом:
– Товарищ подполковник, разрешите доложить: начальник штаба триста тридцать второго стрелкового полка майор Синцов к месту службы прибыл!
– Всего на немного не поспел к красивому бою, – сказал Ильин, выслушав рапорт Синцова. – Устно уже донес в дивизию, а письменно еще нет. – И, усмехнувшись, добавил: – Дело поправимое, где начальник штаба писучий, там и история полка после него останется…
Они сели там же, где Ильин сидел перед боем, спустив ноги в тот же самый окоп; Ильин показывал на местности, что и как было, а Синцов, проставляя пункты и формулируя, записывал это в виде готового донесения.
Так заново началась их совместная служба.
Дописав донесение, Синцов сказал, что только здесь, в полку, от Дудкина узнал, что нет в живых Василия Алексеевича Чугунова.
– Даже Насонов там, в дивизии, ничего мне не сказал.
– Наверно, не пришло в голову, что ты не знаешь. Жизнь быстро идет! Сегодня жив – завтра убит, а послезавтра считается – уже пора привыкнуть, что нету! Вечером, когда хоронили его, гляжу, лежит в своей солдатской шинели. Ниже пояса гусеницей переехало, а голова целая, и шинель как была на два верхних крючка застегнута, так и осталась. Его, если помнишь, малярия, бывало, трясла, и в тот день тоже. Как с утра застегнул шинель на крючки, так в ней и помер. Не хотел носить офицерской шинели с отворотами. И погоны нашивал и перешивал все на ту же, солдатскую… И капитанские и майорские. Говорил: на крюках удобнее! Рассчитывал до конца войны ее доносить…
Ильин откашлялся и вернулся к полковым делам; подозвал комбата – познакомить с новым начальником штаба.
Познакомив, спросил:
– Кто у вас пленных повел?
– Гуреев.
– Про расписку строго ему сказал, не как в тот раз?
– Не повторим ошибки, товарищ подполковник.
– А то они в головокружении от успехов на одну группу пленных расписку взяли, а на другую – нет, и вышло, что сто человек на счет полка не записано. Как начальник штаба, учти на будущее! Пленные, как и денежки, счет любят!
Приказание полку, после утреннего боя, оставалось прежнее; находиться в готовности на занятом рубеже. Знакомя Синцова с полковым хозяйством, Ильин внимательно наблюдал за ним. То, что Синцов пошел в адъютанты, внесло в прежнее отношение Ильина к своему бывшему комбату тень недоверия: уж не настраивался ли на легкую жизнь и не явился ли теперь в строй только потому, что эта легкая жизнь по несчастному стечению обстоятельств оборвалась? Бывает с людьми и так: хотят одного, а соглашаются на другое. Ильин не доверял таким.
Синцов почувствовал оттенок этого недоверия, но не захотел объясняться. С таким человеком, как Ильин, личные отношения – результат деловых. Справишься с делом – растает и лед. А не справишься – словами не растопишь.
Они побывали в двух батальонах и у минометчиков. Остальное отложили на завтра. Ездили и на немецком мотоцикле, который Ильин хвалил за проходимость и верхом. Конь у Ильина остался тот же, что был весной, такой же сытый и гладкий, несмотря на тяготы наступления.
Человек, который, подобно Синцову, был на войне и командиром роты и комбатом, в общем-то знает, что такое полковое хозяйство, и притом знает снизу. А снизу виднее. Знал он полковое хозяйство и сверху – как офицер оперативного отдела, бывал в полках. Но и «снизу» и «сверху», даже вместе взятые, – еще не все. Начальником штаба полка он все-таки не был. И, не желая совершать оплошностей в новом для себя положении, знакомился с полковым хозяйством, стремясь ничего не упустить, записывая в тетрадку.
А когда почувствовал, что Ильин недоволен задержками, посмотрел ему в глаза.
– Лучше записать, чем переспрашивать. Первый день начальником штаба, и не хочу делать вид, что все знаю.
Только после этих слов Ильин заговорил о том, о чем думал полдня.
– Сам попросился к нам?
– К вам – нет. Так вышло, что именно к вам. А вообще попросился.
– Когда? После его гибели?
– Еще до этого.
Ильин хотел спросить: как так, еще до этого? Но удержался.
Когда вернулись на командный пункт, Дудкин доложил, что изменений в обстановке нет, сдались еще три мелкие группы, всего только двадцать два человека.
– Заелись, – сказал Ильин. – Всего только… Бывало, за одним пленным ходим, ходим, по пять ночей подряд… – Он проговорил эти последние слова с трудом, удержав зевоту. – Засыпаю. Утром считал, что навеки выспался, а сейчас снова тянет. Лягу на час. Если что – будите!
И ушел в палатку.
– Вот так всегда, – сказал Дудкин, проводив глазами Ильина. – Дохаживает до последнего.
Они проставили в уже подготовленную Синцовым вечернюю сводку общее число пленных за день: семьсот семь человек. Указали свои потери: двенадцать убитых и тридцать семь раненых. Синцов подписал, и Дудкин отправил сводку нарочным на таком же, как у Ильина, трофейном мотоцикле с коляской.
Пока Ильин спал, Синцов позвонил начальникам штабов соседних полков, представился по телефону и обменялся сведениями об обстановке. Вслед за этим позвонил Завалишин. Узнав, что Ильин спит, а у телефона Синцов, сказал:
– Здравствуй, Ваня! Уже слыхал, что ты здесь. Рад! Командира полка не буди, но, как встанет, передай: задержусь еще на полтора часа. Причину он знает.
Сказал «рад», но голос был озабоченный.
Наступила пауза, никто больше не звонил, и самим звонить не было необходимости. Дудкин сказал, что спать Синцову приготовлено в одной палатке с ним. Чемодан уже отнесли туда.
– Может, и вы отдохнете?
Но Синцову спать не хотелось, да и неудобно было, пока не проснется командир полка.
Ильин, вышел из палатки ровно через час. Проснулся сам и выглядел так, словно и не спал.
Услышав о звонке Завалишина, кивнул, позвал Ивана Авдеевича, чтоб приготовил покушать, и сел на телефон. Позвонил подряд трем комбатам и каждому повторил одно и то же: приказание пока прежнее – в глубь леса не продвигаться, но надо все же послать перед собой усиленную разведку, чтобы к наступлению темноты вернулась и доложила. Распорядился, чтоб в разведгруппы включили побольше людей из партизанского пополнения: «Погоны новые, а вояки старые – каждый куст в этом лесу знают!»
Ильина томило бездействие. И он, не переходя той грани, за которой начинается прямое нарушение приказа, вносил в него свои поправки.
Под деревьями, за палаткой, где спал Ильин, стоял врытый в землю столик с двумя скамейками для всего: и для работы и для еды. За этим столиком и ужинали вдвоем с Синцовым. Ели теплую кашу с мясной подливой и пили горячий чай. Про водку Ильин спросил в начале ужина:
– Наркомовскую норму будешь?
Но Синцов ответил, что одному нет охоты.
– Тем лучше. Весной, когда был у нас, сказал тебе; поработаем над полком, сделаем лучшим в армии. Помнишь?
– Помню.
– Зависит от нас. Другие любят Лазаря петь: то не туда его поставили, то плохое пополнение дали… А я не люблю – куда поставили, туда поставили, кого дали, того дали; делай, что от тебя самого зависит! Как в старой солдатской песне: «Всем задачу боевую исполнять надо всегда, надо связь держать по фронту, слышать, видеть впереди!»
Ильин впервые за все время улыбнулся.
– Не слыхал этой песни, – сказал Синцов.
– Мне ее повозочный рассказал, девяностого года рождения. Там в ной и другие хорошие поучения есть: «Если ранят тебя больно, отделенному скажи, отползи назад немного, рану сам перевяжи. Если есть запас патронов, их товарищу отдай. А винтовку, трехлинейку, никому не оставляй…» Индивидуальных пакетов в то время не было, я пробовал сам в нее вставить про индивидуальный пакет – не вставляется. Был бы у нас с тобой, как в Сталинграде, Рыбочкин, сразу вставил, сочинил бы… – сказал Ильин. И, вспомнив оставшегося под Белгородом без ноги Рыбочкина, вдруг спросил: – Скажи откровенно, тебе с рукой твоей не будет трудно?
– Будет трудно – скажу откровенно.
– А что с женой?
Синцов посмотрел на него. После того весеннего разговора с Ильиным о Тане столько всего было, что неизвестно, с чего начать и чем кончить. Лучше не начинать.
Помолчав, он ответил, что Таня шесть дней назад ранена осколком гранаты и сейчас – в тыловом госпитале. Где – пока неизвестно.
– Тяжело?
– Нет, не тяжело.
– Тогда еще терпимо. В первый раз?
– Нет, во второй.
Ильин покачал головой и сказал о немцах:
– Вот берем, берем их в плен. А они женщину ручной гранатой…
И в этих его словах, почти выкрике, было все, что накопилось, пока шел обратно, на запад, среди повсеместного разорения и неизмеримого людского горя, которое все равно оставалось горем, несмотря на все наши победы и все немецкие поражения.
Завалишин появился как-то неслышно. Подошел и стоял молча.
– Иногда не могу про них спокойно, – оглянувшись и заметив его, сказал Ильин, словно ожидал возражений.