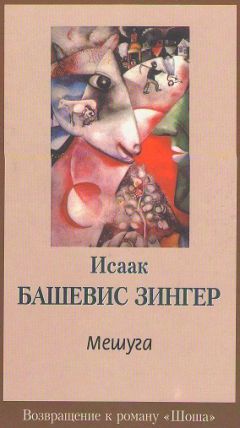Подростки с выбивающимися из-под широкополых шляп вьющимися пейсами напоминали маленьких раввинов.
Барбара не сводила с них глаз. Лунный свет падал на бледные лица и черные бороды, отражался в темных глазах. Подростки с молитвенниками в руках скакали, точно козы, то распевая молитвы, то толкаясь и в шутку задирая друг дружку. В открытое окно молитвенного дома видны были полки с книгами, Ковчег Завета, позолоченные львы, поминальные свечи. Барбара вспомнила отца; перед смертью он вдруг прокричал, что хочет лежать на еврейском кладбище.
Вернувшись к себе в номер, они не стали включать свет. Наконец-то они одни. Завтра они отправятся в горы. Пусть все летит в тартарары — эту ночь у них не отнимет никто. Барбара подошла к окну, взглянула на чистое небо, на ряды горбатых крыш. Аса-Гешл отхлебнул ледяной воды из кувшина. Ему вспомнился их последний вечер с Адасой, как она пошла проводить его из Шрудборова на станцию в Отвоцк. На прощание она трижды его поцеловала и сказала: «Если я умру, похорони меня возле мамы».
Только теперь Аса-Гешл понял, как странно она тогда вела себя. С чего бы это? Знала, что он уезжает? И тут его пронзила страшная мысль: больше он ее не увидит никогда.
В этом году, как и каждый год в месяц Элул, в молельных и общинных домах евреи, дабы спастись от сатаны, трубили в шофар, старинный бараний рог. Польское правительство принимало меры по обороне страны — на свой, правда, лад. В парках и скверах рыли траншеи, чтобы, в случае бомбардировок, использовать их в качестве бомбоубежищ. Священники и раввины, подавая пример другим, первыми втыкали в землю лопаты. Хасиды и ешиботники, как и полагается истинным патриотам Польши, добровольно принимали участие в рытье траншей; от страха перед внезапным налетом немецких самолетов работа велась всю ночь в кромешной тьме. Окна домов были занавешены черной бумагой или одеялами. Была объявлена частичная мобилизация. Ни для кого не было секретом, что генералы и полковники, которые пришли к власти после восстания Пилсудского, к современной войне совершенно не готовы. Несмотря на все заверения маршала Рыдз-Смиглы о том, что «мы не отдадим и пяди польской земли», ожидалось, что польская армия будет отступать до самого Буга.
Пиня Мускат не выходил на улицу без карты в кармане. Не проходило и дня, чтобы он, придя в молельный дом Бялодревны, с пеной у рта не доказывал молящимся, что Гитлер попросту оголтелый безумец. Нюня послал открытку Адасе в Шродборов, уговаривая ее поскорей вернуться в город. Он писал, что поселит ее и Дашу у себя. Однако Адаса возвращаться в Варшаву не собиралась. Бои ведь начнутся в Гданьске, а вовсе не в Шродборове. Аарон, бялодревнский ребе, собирался провести праздничные дни в Фаленице. Лея рвалась обратно в Америку, но Копл об отъезде даже слышать не хотел. Целые дни просиживал он у вдовы Давида Крупника, в прошлом — госпожи Голдсобер. Он носил ей подарки и играл с ней в карты, а она готовила его любимые блюда. Приходили к ней и Леон Коробейник с Мотей Рыжим. Старые друзья попивали коньячок, лакомились телячьей ножкой в желе и курили американские сигареты, которые приносил Копл. Помимо сигарет Копл угощал старых друзей ананасами, сардинами, икрой. О чем они только не говорили: и об обществе Анше Зедека, чьим президентом долгое время был покойный Исадор Оксенбург; и о столкновениях между варшавскими и пражскими бандами, и о революции 1905 года, и о стычках бастующих и уголовников. Что сталось с этим замечательным временем? Ушло безвозвратно. Не стало ни Иче Слепого, ни Шмуэля Сметаны, ни Хацкеле Шпигельгласса. Не стало рэкетиров, сутенеров, водителей конок. Карманники с Крохмальной и Смочьи стали партийными и профсоюзными деятелями. Парни с Крытого рынка Янаса организуют теперь коммунистические демонстрации. Все они превратились в интеллигентов.
Мотя Рыжий с грустью покачал головой:
— Нет больше старой Варшавы. Кончилась. По ней кадиш читать можно.
— А помнишь, как Борух Палант побился об заклад, что выпьет три дюжины сырых яиц? — спросил Леон Коробейник.
— Ах, чего только не было…
Копл рассказывал друзьям, что американцы ничего не смыслят в еде. Только и знают, что сэндвичи жуют. Любят подраться — но по правилам. Если один из драчунов в очках, он их обязательно снимет. И запрещается бить ниже пояса. Рассказал и про скачки:
— Представляете, одна лошадка принесла своему владельцу больше миллиона долларов.
Леон Коробейник причмокнул:
— Да, сумма приличная.
— Еще бы, — согласился Мотя Рыжий.
— И совершенно не обязательно самому быть на ипподроме, — продолжал Копл. — Вовсе нет. Сидишь, как царь, в турецкой бане и знаешь все, что происходит. Цифры сами приходят по электричеству. Смотришь на них, а девушка тебе в это время массаж делает.
— Ха-ха, Копл, — засмеялась госпожа Крупник. — Все тот же старина Копл.
— А ты считаешь, что, если мужчина постарел, он уже не мужчина? Видит он немногим хуже, да и чувства не притупились. Ну, а со всем остальным… да, действительно, дело обстоит не лучшим образом… Он уже вне игры.
— Так мы тебе и поверили.
— Говорю тебе, Копл, ты доиграешься. Не уедешь сейчас — придет Гитлер, тогда прощай, Америка!
— Что мне твой Гитлер сделает? Соль на хвост, что ли, насыплет?
— Говорит же он, что покончит с евреями раз и навсегда.
— Аман тоже так говорил, — взвился Леон Коробейник. — Когда он увидел, что Мордехай его не боится, то решил перебить всех евреев. И чем кончилось? Пришла Эстер — и он остался ни с чем.
— Гитлеру Эстер не понадобится.
— Он и без нее окочурится.
— Ты уже купил себе место в синагоге на Рош а-шона и Йом-Кипур? — полюбопытствовала госпожа Крупник.
— Я буду молиться в Фаленице, вместе с ребе, — ответил Копл. — Я ведь, можно сказать, его отчим.
Копл сам не заметил, как наступил вечер. После ужина сели играть в карты. Из-за стола встали за полночь. На Праге взять такси было сложно, и Копл остался ночевать. Госпожа Крупник дала ему халат и шлепанцы своего покойного мужа, постелила постель. Копл лег и стал напряженно вглядываться в темноту. Не верилось, что он опять в Варшаве. Неужели он — тот самый Копл, который когда-то был управляющим Мешулама Муската? Мужем Башеле? Казалось, все это было сном. Он стал думать о смерти. Сколько он еще протянет? Два-три года, не больше. Похоронят его в Бруклине. По пути с кладбища какой-нибудь еврей остановится на Дилэнси-стрит пропустить стаканчик. Лея получит по страховке двадцать тысяч долларов. Зачем ей такие деньги, старой карге? Нет, он перепишет завещание и все оставит детям. Как только вернется в Америку. Вот, собственно, и все. Его сожрут черви, и совсем скоро не останется никого, кто бы помнил, что жил когда-то на земле человек по имени Копл. Неужели и в самом деле есть такая вещь, как душа? Что она собой представляет? Что делает? Бродит по миру без тела?
Копл уснул. Проснувшись спустя несколько часов, он первым делом выпростал из-под одеяла руку и нащупал дорожные чеки в кармане брюк и паспорт во внутреннем кармане пиджака. Лея права. Из Польши надо убираться, и поскорей. Только войны ему еще не хватало! Мысли, одна мрачнее другой, не давали ему покою. Упало надгробие на могиле Башеле. Надо бы поставить другое, но он напрочь об этом забыл. А на могиле ее второго мужа, Хаима-Лейба, вообще ничего не было — она так и стояла безымянной. Он начал думать о Лее. В Америке она как-никак была его женой; здесь же, в Польше, — совершенно чужим человеком. Ее дочь Лотти с ним не разговаривала, да и собственный сын Монек — только потому, что устроился бухгалтером, — смотрел на него свысока. В Америке бухгалтер — ноль, пустое место; это здесь, в Польше, любой сопливый счетовод считает себя пупом земли. Он закашлялся.
Госпожа Крупник проснулась:
— Что с тобой, Копл? Не спится?
— В твоей постели мне всегда спится прекрасно.
Госпожа Крупник помолчала, потом вздохнула и захихикала:
— Ты спятил — я ведь старуха.
— А я старик.
— Не валяй дурака.
Копл пролежал без сна до рассвета. Ему снился дурной сон. Что это был за сон, он вспомнить не мог, но во рту у него остался дурной привкус. Почему-то хотелось поскорей одеться и как можно быстрее уйти. Госпожа Крупник принесла чай с молоком, но Копл лишь отпил заварки из чайника, оделся и вышел, сказав, что днем обязательно вернется. Госпожа Крупник по-прежнему жила на Малой улице. В том же доме, этажом ниже, жила Жиля, дочь Исадора Оксенбурга. Копл не хотел, чтобы видели, как он выходит из квартиры госпожи Крупник; он нахлобучил шляпу на глаза и надел темные очки. Попробовал было сбежать по лестнице, но ноги не слушались. Он кое-как вышел на Сталовую и стал махать тростью проезжавшим такси, но машины не останавливались. Пришлось сесть в трамвай. Его охватило желание поскорей увидеть Лею, сказать ей, что оба они старые люди и ссориться в их возрасте глупо. Кондуктор протянул ему билет. Копл сунул руку в карман за мелочью, но мелочи не оказалось — была лишь банкнота в двадцать злотых. Кондуктор что-то недовольно буркнул, сунул руку в кожаную сумку и отсчитал Коплу сдачу: монетами в пятьдесят, двадцать, десять грошей. И тут рука Копла, в которую кондуктор вложил сдачу, почему-то вдруг разжалась и упала, монеты рассыпались по полу вагона. Страшная, нечеловеческая боль пронзила ему грудь и левую руку, и он повалился навзничь. Пассажиры повскакали со своих мест. Кондуктор стал звонить вагоновожатому.