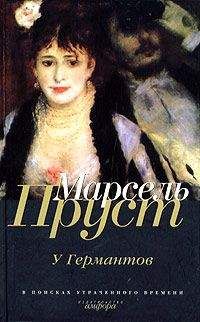«Я полагаю, что принцесса Пармская осталась очень довольна обедом в вашем обществе». Я знал эту формулу. Герцог перешел через весь салон, чтобы произнести ее с любезным и убежденным видом, точно вручая мне диплом или угощая птифурами. По тому удовольствию, которое он явно испытывал в эту минуту и которое придало на миг чрезвычайно ласковое выражение его лицу, я почувствовал, что заботы такого рода он будет нести до последнего дня своей жизни, как те почетные и нетрудные должности, которые сохраняют за собой даже впавшие в детство старики.
Когда я уже собрался уходить, в салон вернулась статс-дама принцессы Пармской, забывшая взять присланные из Германта чудесные гвоздики, которые герцогиня подарила принцессе. Статс-дама была вся красная, чувствовалось, что с ней говорили грубо, ибо принцессу, такую добрую со всеми, выводила из терпения глупость компаньонки. Вот почему статс-дама торопилась, унося гвоздики, но, чтобы сохранить непринужденный и своенравный вид, бросила, поровнявшись со мной: «Принцесса находит, что я опаздываю, ей хочется, чтобы мы уже уехали и в то же время взяли гвоздики. Господи, я не птичка, я не могу быть сразу в нескольких местах».
Увы, указанное обстоятельство — нельзя уходить раньше отъезда высочества — было не единственной причиной, побуждавшей герцогиню удержать меня. Я не мог уйти немедленно и по другой причине; дело в том, что пресловутая роскошь (неизвестная Курвуазье), которой Германты, как состоятельные, так и полуразоренные, так любили потчевать своих друзей, была не только роскошью материальной, но также (что я не раз уже изведал в обществе Робера де Сен-Лу) роскошью пленительных слов и любезного обхождения, изысканной элегантностью, питаемой подлинным внутренним богатством. Но так как последнее в обстановке светской праздности остается без употребления, то порой оно прорывалось, искало выхода в мимолетном излиянии, тем более волнующем, что оно способно было внушить мысль о сердечном расположении герцогини. Впрочем, это бывало с ней в минуты, когда чувство переполняло ее, она испытывала тогда в обществе своего приятеля или приятельницы своего рода опьянение, но вовсе не чувственное, а похожее на то, что дает некоторым лицам музыка; ей случалось отколоть цветок от своего корсажа или снять медальон и подарить их человеку, с которым она желала бы продлить вечер, с грустью чувствуя при этом, что такое продление может привести только к пустым разговорам, в которые не перешло бы ничего от нервного удовольствия мимолетной эмоции, похожей на первое весеннее тепло по оставляемому ею ощущению усталости и печали. Что же касается приятеля, то ему не следовало слишком доверять обещаниям, самым пьянящим из всех, какие он когда-нибудь слышал, произнесенным одной из тех женщин, которые, ощущая с такой силой сладость мгновения, обращают его с деликатностью и благородством, неведомым существам нормальным, в трогательный шедевр благорасположения и доброты, но ничего уже не могут дать с наступлением другого мгновения. Их нежные чувства не переживают продиктовавшего их возбуждения, а тонкость ума, позволившая им тогда угадать и высказать все, что вы желали от них услышать, позволит им через несколько дней так же искусно подметить ваши смешные стороны и позабавить ими другого своего гостя, с которым они будут наслаждаться одной из этих «музыкальных минут», таких скоротечных.
Когда я спросил в вестибюле у одного из лакеев мои ботики, которые захватил из предосторожности по случаю снега, быстро обращавшегося в грязь, не сообразив, что это не очень элегантно, все посмотрели на меня с презрительной улыбкой; я густо покраснел, особенно когда заметил, что принцесса Пармская еще не уехала и видела, как я обуваю неуклюжее американское изделие. Принцесса подошла ко мне. «Ах, какая удачная мысль, — воскликнула она, — как это практично! Вот умный человек! Мадам, нам надо будет это купить», — сказала она своей статс-даме, между тем как ирония лакеев сменилась почтением и гости герцогини столпились вокруг меня, расспрашивая, где я достал эту прелесть. «Благодаря этой веши вы можете спокойно идти, даже если снова пойдет снег! теперь ведь не лето», — продолжала принцесса. «О, на этот счет ваше королевское высочество может быть спокойным, — вмешалась статс-дама с уверенным видом, — снега больше не будет». — «Откуда вы знаете, мадам?» — с раздражением спросила добрейшая принцесса, которую способна была рассердить только глупость ее статс-дамы. «Я могу в этом заверить ваше королевское высочество, снега больше не может быть, это физически невозможно». — «Да почему же?» — «Снега больше не может быть, против этого приняли меры: улицы посыпали солью!» Глупенькая дама не заметила гнева принцессы и общего веселья, так как, вместо того чтобы замолчать, она сказала мне с приятной улыбкой, нисколько не считаясь с моими возражениями по поводу адмирала Жюрьен де ла Гравьера: «Впрочем, что за важность? У мосье наверно морские ноги. Хорошая кровь всегда сказывается».
Проводив принцессу Пармскую, герцог Германтский сказал, подавая мне пальто: «Я вам помогу залезть в вашу хламиду». Он даже не улыбался больше, употребляя это выражение, ибо выражения самые вульгарные именно вследствие напускной простоты Германтов сделались аристократическими.
Я тоже испытал это искусственное возбуждение, сменяющееся обыкновенно меланхолией, хотя и совсем по-другому, чем герцогиня Германтская, когда наконец вышел от нее и сел в экипаж, чтобы ехать к г-ну де Шарлюсу. Мы можем по своему выбору отдаваться которой-нибудь из двух сил: одна возникает в нас самих, исходит из наших глубоких впечатлений, другая притекает к нам извне. Первая естественно несет с собой радость, ту радость, которую излучает жизнь творческих натур. Другой ток, тот, что пытается ввести в нас возбуждение, одушевляющее окружающих нас людей, не сопровождается удовольствием; но мы можем его присоединить к нему ответным толчком в форме напускного опьянения, которое быстро обращается в скуку, в тоску, откуда все эти унылые лица светских людей и такое множество среди них нервных, способных дойти до самодурства. И вот, в экипаже, который вез меня к г-ну де Шарлюсу, я был во власти этого второго вида возбуждения, резко отличного от того, что вызывается в нас каким-нибудь интимным впечатлением, вроде испытанных мной когда-то в других экипажах, один раз в Комбре, в экипаже доктора Перепье, из которого я наблюдал рисовавшиеся на закатном небе колокольни Мартенвиля, а другой раз в Бальбеке, в коляске г-жи де Вильпаризи, пытаясь разобрать, что мне напоминала одна группа деревьев. Но в этом третьем экипаже перед мысленными моими очами были разговоры, показавшиеся мне такими скучными за обедом у герцогини Германтской, например, рассказы князя Фон о германском императоре, о генерале Бота и английской армии. Теперь я их вставил в тот внутренний стереоскоп, глядя в который, — после того как мы перестали быть самими собой и, вселившись в душу светского человека, заимствуем нашу жизнь от других, — мы придаем выпуклость всему, что было сказано другими, всему, что было ими сделано. Подобно пьяному, который исполняется нежностью к подававшему ему официанту, я наслаждался выпавшей мне радостью (которой, правда, не ощущал, сидя в салоне у Германтов) обедать с человеком, так хорошо знавшим Вильгельма II и рассказавшим о нем, ей-богу, очень остроумные анекдоты. Припоминая вместе с немецким акцентом князя анекдот о генерале Бота, я громко смеялся, как если бы этот смех, подобно иным аплодисментам, увеличивающим наше восхищение, необходим был для усиления комичности анекдота. Рассмотренные в увеличительное стекло суждения герцогини Германтской, даже те из них, которые показались мне глупыми (например, о Франце Гальсе, которого следовало смотреть с трамвая), наполнялись жизнью, приобретали необыкновенную глубину. И я должен сказать, что хотя мое возбуждение скоро спало, оно было не вовсе бессмысленным. Мы можем в один прекрасный день порадоваться нашему знакомству с крайне неприятной нам особой, потому что она оказывается в близких отношениях с девушкой, которую мы любим и которой она может нас представить, соединяя таким образом полезное с приятным, чего мы никогда в ней не предполагали; но как относительно наших знакомств, так и относительно услышанных нами суждений никогда нельзя сказать с уверенностью, что они нам не пригодятся. Замечание герцогини Германтской относительно картин, которые интересно посмотреть даже с трамвая, было ошибочно, но содержало частицу истины, впоследствии оказавшуюся для меня чрезвычайно ценной.
Равным образом прочитанные герцогиней стихи Виктора Гюго относились, надо признаться, еще не к той поре, когда Гюго стал больше, чем новым человеком, когда в эволюции искусства он явил неизвестный еще литературный вид, наделенный более сложными органами. В этих первых стихотворениях Виктор Гюго еще мыслит, вместо того чтобы давать, подобно природе, только материал для размышлений. В ту пору он еще выражал «мысли» в самой непосредственной форме, почти что так, как употреблял это слово герцог, когда, находя устарелой и громоздкой манеру гостей, приглашаемых им на большие празднества в Германте, сопровождать свою подпись в альбоме замка каким-нибудь философски-поэтическим размышлением, он умоляющим тоном обращался к вновь прибывшим: «Ваше имя, дорогой мой, но без всяких «мыслей»!» Между тем именно эти «мысли» Виктора Гюго (почти в такой же степени отсутствующие в «Легенде веков», как «арии» и «мелодии» в вагнеровских операх второй манеры) герцогиня Германтская любила в ранних его стихотворениях. Однако не совсем безосновательно. Они были трогательны, но уже окружались, правда, еще не в той глубокой форме, какую поэт выработал впоследствии, бушеванием множества слов и богато расчлененных рифм, которое не позволяло уподобить их стихам, попадающимся, например, у Корне-ля, где спорадический, сдержанный и тем более нас волнующий романтизм не проник, однако, до физических источников жизни, не изменил бессознательного и обобщаемого организма, в котором укрывается мысль. Вот почему я был неправ, ограничиваясь до сих пор последними сборниками Гюго. Что же касается более ранних, то, конечно, разговор герцогини Германтской украшался лишь самыми ничтожными крупицами из них. Но именно вырывая таким образом из контекста отдельный стих, мы удесятеряем его притягательную мощь. Стихи, вошедшие или вернувшиеся в мою память во время этого обеда, в свою очередь намагничивали и с такой силой влекли к себе пьесы, в которые они обыкновенно бывают включены, что мои наэлектризованные руки не в состоянии были больше сорока восьми часов сопротивляться тяге, направлявшей их к тому, в который переплетены были «Восточные мелодии» и «Песни сумерек». Я проклинал подручного Франсуазы за то, что он подарил своим землякам мой экземпляр «Осенних листьев», и, не теряя ни секунды, послал его купить другой. Я перечитал эти томы от начала до конца и не успокоился до тех пор, пока вдруг не заметил стихов, приведенных герцогиней в том самом освещении, которое она им придала. По всем этим причинам разговоры с герцогиней напоминали те сведения, которые мы черпаем в библиотеке какого-нибудь замка, устарелой, нелепой, неспособной сформировать ум, лишенной почти всего, что мы любим, но иногда дарящей нам какую-нибудь любопытную справку и даже ряд прекрасных страниц, которых мы не знали и по поводу которых с удовольствием вспоминаем впоследствии, что мы обязаны знакомством с ними великолепному барскому жилищу. Тогда мы склонны бываем, оттого что нам удалось найти предисловие Бальзака к «Пармскому монастырю» или неизданные письма Жубера, преувеличивать ценность жизни, которую мы там вели и бесплодную суетность которой забываем ради этой случайной находки.