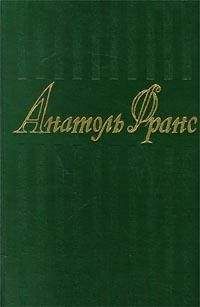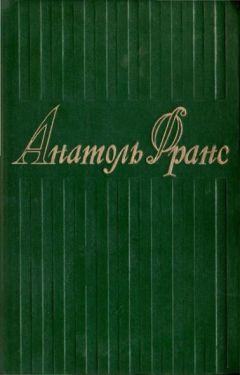При мысли, что какой-либо бог может явиться из Иудеи, легкая улыбка скользнула по лицу сурового прокуратора. Затем он сказал серьезно:
— Как могут иудеи навязать свое вероучение другим народам, когда они сами грызутся между собою из-за его толкования? Ты был свидетелем того, Ламия, как последователи двадцати враждующих сект, собравшись на городских площадях со свитками в руках, поносили друг друга, вцепившись в бороды? Ты был свидетелем того, как в притворе храма, обступив какого-то несчастного, который пророчествовал в состоянии исступления, они в знак печали раздирали на себе жалкие одежды? Для них недоступны диалектические споры без распри, от всей чистоты души, о божественных вещах, пусть и окутанных туманом и исполненных неопределенности. Ибо природа бессмертных — за пределами нашего сознания, и мы не в состоянии постигнуть ее сущность. Иной раз я склонен думать, что мудро верить в божественное провидение. Но иудеи чужды философии и нетерпимы к инакомыслящим. Напротив, они считают достойным смертной казни всякого, кто открыто исповедует верования, противные их закону. А с того времени, как они подпали под власть Рима и смертные приговоры, выносимые их судилищем, стали вступать в силу лишь после утверждения проконсулом или прокуратором, они вечно докучали римским правителям просьбами одобрить их зловещие решения; они с воплями осаждали преторию, требуя казни осужденного. Сто раз толпы иудеев, богатых и бедных, со священниками во главе, обступали мое кресло из слоновой кости и, цепляясь за полы моей тоги и за ремни сандалий, с пеной у рта взывали ко мне, требуя казни какого-нибудь несчастного, за которым я не находил никакой вины и который был в моих глазах таким же безумцем, как и его обвинители. Что я говорю, сто раз! Так бывало ежедневно, ежечасно. И однако ж я был вынужден исполнять их законы, как наши собственные, ибо Рим вменял мне в обязанность не нарушать, а поддерживать их обычаи, держа в одной руке судейский жезл, а в другой секиру. Вначале я пробовал воздействовать на них; я пытался вырвать несчастную жертву из их рук. Но мое человеколюбие еще больше раздражало их. Словно ястребы, кружились они вокруг меня, хлопая крыльями, широко раскрыв клювы, и требовали свою добычу. Их священники писали Цезарю, что я попираю их законы, и эти жалобы, поддержанные Вителлием, навлекли на меня суровые порицания. Сколько раз мной овладевало желание послать в тартар, как говорят греки, и обвиняемых и обвинителей!
Не думай, Ламия, что я питаю бессильную злобу или старческую неприязнь к народу, который отнял у меня Рим и покой. Но я предвижу, что этот народ рано или поздно доведет нас до крайности. Не имея сил управлять им, мы вынуждены будем его уничтожить. Нет сомнения: настанет день, и этот непокорный народ, лелея в своем разгоряченном воображении мечту о бунте, даст волю гневу, перед которым озлобление нумидийцев и угрозы парфян покажутся детским своенравием. Они в тиши вынашивают безрассудные надежды и помышляют о том, как бы низвергнуть наше могущество. И может ли быть иначе, раз этот народ, веря предсказанию какого-то оракула, ожидает пришествия некоего мессии, их соплеменника, который станет владыкой мира? С этим народом не справиться. Его надо искоренить. Надо разрушить Иерусалим до основания. И как я ни стар, я все же надеюсь дожить до того дня, когда падут его стены, когда огонь пожрет его дома, когда жители его будут истреблены и на том месте, где высился храм, не останется камня на камне. То будет день моего отмщения.
Ламия постарался придать беседе более миролюбивый тон.
— Я вполне понимаю твое злопамятство и твои мрачные предчувствия, Понтий,— сказал он.— Конечно, те свойства характера иудеев, с которыми тебе пришлось столкнуться, не говорят в их пользу. Однако я, живя в Иерусалиме как сторонний наблюдатель и сблизившись с этим народом, встречал там людей, исполненных добродетели, но не удостоившихся твоего внимания. Я знавал иудеев, которые своей кротостью, простотой нравов и чистым сердцем напоминали старца Эбалию, воспетого нашими поэтами. И ты сам, Понтий, не раз видел, как под палками твоих легионеров, не называя своего имени, умирали простые люди во славу того, что они почитали истиной. Такие люди не заслуживают нашего презрения. Я говорю так, ибо должно во всех случаях соблюдать беспристрастие и справедливость. Но, признаюсь, никогда иудеи не внушали мне особенного расположения. Зато иудеянки мне очень нравились. Я был тогда молод, и сирийские женщины приводили в смятение мои чувства. Их алые губы, влажные и блестящие в темноте глаза, их глубокий взгляд пронизывали меня до мозга костей. Их тело, набеленное и накрашенное, благоухающее нардом и миррой, умащенное благовониями, исполнено терпкой и тонкой прелести.
Понтий выслушивал эти хвалы с явным нетерпением.
— Я не из тех, что попадаются в сети иудеек,— сказал он,— но раз ты навел меня на этот разговор, признаюсь тебе, Ламия, что я никогда не одобрял твоей невоздержанности. Никогда ранее я не говорил тебе, что, соблазнив жену римского консула, ты поступил дурно, ибо ты и без того был жестоко наказан. У патрициев брак считается священным; это установление, на котором держится Рим. Что же касается связи с женами рабов и чужестранцев, в том нет ничего предосудительного, если в силу привычки такая связь не превращается в постыдную слабость. Позволь сказать, что уж слишком усердно ты поклонялся уличной Венере; и особенно я порицаю тебя, Ламия, за то, что ты не вступил в законный брак и не оставил Империи потомства, как то подобает всякому доброму гражданину.
Но изгнанник Тиберия не слушал старого сановника. Осушив кубок фалернского, он улыбался незримому образу.
После минутного молчания он заговорил почти шепотом, постепенно повышая голос:
— С какой истомой танцуют женщины Сирии! Я знавал в Иерусалиме одну иудеянку: {235} в какой-то трущобе, при мерцании коптящего светильника, она плясала на грязном ковре, время от времени ударяя в цимбалы высоко вскинутыми руками. Она танцевала, сладострастно изгибаясь, запрокинув голову, как бы изнемогая под тяжестью густых рыжих волос, с затуманенным взором, знойная и истомленная, готовая уступить. Она вызвала бы зависть самой Клеопатры. Я любил ее дикую пляску, ее немного хриплый, но все же нежный голос, исходивший от нее запах ладана, тот полусон, в котором она жила. Я следовал за ней всюду. Я сблизился с презренным миром солдат, уличных фокусников и мытарей, окружавших ее. Однажды она исчезла и больше не появлялась. Я долго искал ее во всех подозрительных переулках, в тавернах. Отвыкнуть от нее было труднее, нежели от греческого вина. Несколько месяцев спустя я случайно узнал, что она примкнула к кучке мужчин и женщин, которые следовали за молодым чудотворцем из Галилеи. Он называл себя Иисусом Назареем [32] и впоследствии был распят за какое-то преступление. Понтий, ты не помнишь этого человека?
Понтий Пилат нахмурил брови и потер рукою лоб, пробегая мыслию минувшее. Немного помолчав, он прошептал:
— Иисус? Назарей? Не помню.
Распростершись у входа в свою мрачную пещеру, отшельник Целестин провел в молитвах пасхальную ночь, ту святую ночь, когда трепещущие демоны ввергаются в преисподнюю. Тени еще окутывали землю, был тот час, когда во время оно ангел смерти витал над Египтом, и Целестин вдруг почувствовал неизъяснимую тревогу и беспокойство. Из чащи леса до него доносилось мяуканье диких кошек и скрипучие голоса жаб; объятый греховным мраком, он вдруг усомнился в том, что славное чудо некогда совершилось. Но едва забрезжил рассвет, радость вместе с зарею вселилась в его сердце; он постиг, что Христос воскрес, и воскликнул:
— Иисус восстал из гроба! Любовь победила смерть, аллилуйя! Он возносится в сиянии от подножья холма! Аллилуйя! Все сущее возродилось и очистилось. Мрак и зло рассеялись, благодать и свет снизошли на землю! Аллилуйя!
Жаворонок, пробудившись среди хлебов, ответил ему песней:
— Христос воскрес! Мне пригрезились гнезда и яйца, белые яйца в коричневых крапинках. Аллилуйя! Христос воскрес!
И отшельник Целестин покинул свою пещеру и направился в ближайшую часовню, дабы отпраздновать день святой пасхи.
Идя лесом, он увидел на полянке великолепный бук, из набухших почек которого уже выглядывали крошечные нежно-зеленые листочки; гирлянды из плюща и шерстяные повязки украшали его ветви, склонившиеся до самой земли; обетные дощечки, прикрепленные к раскидистому дереву, говорили о молодости и о любви; глиняные Эроты в развевающихся туниках, с распростертыми крыльями, покачивались на ветвях. При виде этого отшельник Целестин нахмурил седые брови.