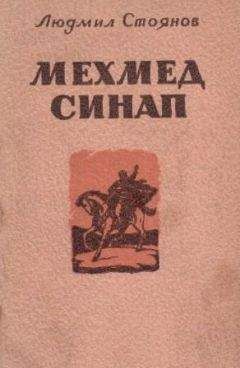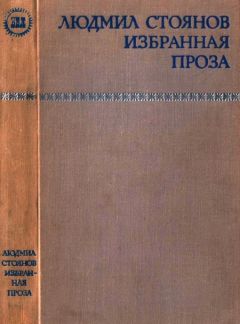Чабан ежился, как от боли, словно хотел вызвать к себе сострадание. Синап укоризненно сказал ему:
— Что ты корчишься, как червяк? Мы не едим людей. Человек ты или нет? Как тебя зовут?
— Янык...
— Янык?! — рассмеялся Синап, разглядывая рано полысевшую голову чабана и его постаревшее, сморщенное от дождя и ветра лицо.— Хорош Янык...[32] Ну! Украл ты козлят или нет?
— Йок, атаман, я их не крал, — осмелел чабан. — Аллах... — И он возвел глаза к небу.
— Куда же им деваться?
— Упали, атаман, сорвались в пропасть. Я их освежевал, сообщил бею, чтобы он забрал их, — никто не пришел.
— Я знаю, что хлеба у тебя не было; но мука, мука для качамака была?
— Йок... когда же мы, чабаны, видим хлеб?
Синап подумал минуту.
— Посадить тебя — грех будет. Отпустить тебя — света белого не увидишь ты у Таушан-бея. Знаю я тех, у кого всего много. У неимущего они и душу готовы отнять! Что же мне делать с тобой? Не такой ты человек, чтобы гнать тебя вон. Хочешь остаться у меня в конаке? Я вижу, ты старый чабан, умеешь держать ружье в руке... А нам требуются такие люди, драться с недругами: пашами и беями...
Человек отер с лица пот; у него словно прояснилось перед глазами. Он выпрямился во весь рост и твердо сказал:
— Хорошо, атаман, я остаюсь... Буду служить тебе верно, как собака!
— Ты только слушайся меня... Я не плохой человек. Страхин! Кьокорджа! Дайте-ка ему одежду да накормите его!
После этого он сел на своего Хороза и спустился вниз к реке, к сараям и гумнам. Ему хотелось взглянуть еще раз: что уродила земля? Щедрее ли она в этот раз? Или, как всегда, осталась скрягой для чад своих?
Глава седьмая
ВЛАСТЬ НИКОГДА НЕ СПИТ
Шел уже четвертый год безраздельного господства Мехмед Синапа в обширной Чечи. У него родился второй ребенок. В доме его стало шумно. Как пожелали ему голодные ахрянки, так и сбылось: у него множилось имущество, домочадцы, жизнь была полна удачи и смысла. Он понял, что значит быть отцом, и представлял себе голодных детей, скулящих о хлебе, иссохших, как корешки. А отцы, которые теперь служили ему, испытали этот ужас и потому готовы были пойти за Синапом на край света.
Один раз он решил не спускаться на равнину. Не потому, что хотел покориться, а потому, что год выдался милостивый: своего жита уродилось достаточно, да и прикупить можно было за деньги. Султан Селим подумал, что Синап решил сдаться. На Марице стало спокойно, торговля оживилась.
Но когда на следующий год пришел голод и нищета, снова на равнине запылали пожары, в поместья беев и в государственные склады нагрянул вооруженный отряд Синапа, и снова до слуха падишаха донеслось ненавистное ему и презренное имя разбойника.
Он действительно стал известен далеко за пределами Чечи. На гулянках и сходках о нем пели песни. Султан не имел такой власти, какою пользовался он; правда, Синап пользовался ею не для своей личной выгоды, а для общего блага. Он сам начинал сознавать, насколько он могуществен, ибо свою силу он видел в других, а не в себе. Иногда он становился суров, но суровость его была какой-то отеческой, выражавшей любовь. Даже покорившись, он не мог бы пойти в прислужники султана, например, или стать, как Кара Феиз или Кара Мустафа, подносчиком кувшина падишаху... Он был привязан к своей Чечи, как зверь к своему лесу, и вдали от нее страдал бы. Покинуть Гюлу и двух своих детей, покинуть весь этот голодающий народ, надеющийся на него, и пойти драться с австрийцами и московитами ради пестрых шаровар падишаха — это ему казалось немыслимым.
— У султана есть свои люди, — говорил он Дертли Мехмеду, — он обойдется и без нас. Мы поклялись служить нашим братьям и будем бороться до последней минуты!
Он готов был остаться до конца дней своих здесь, среди дорогих ему людей, среди своей прекрасной Чечи, которая хоть и не родила ничего, но была свободной.
Он велел позвать Муржу.
— Верно ли, Муржу, что глашатай в Хюлбе говорил о Кара Феизе и Эминджике, будто они сдались султану и стали его слугами?
— Верно, атаман, я это слышал из уст глашатая. Сдались с дружиной в восемьсот человек.
— Славно... Ну что ж, пожелаем им счастья!
Нахмурившись, он поднялся на верхнюю галлерею, откуда открывался широкий вид на гористую Чечь. Вон до тех пор тянется лес, а дальше стоит, как остров в зеленом море, необъятный Машергидик...
Известие возмутило Синапа. Но за свою Чечь он был спокоен. Царство его было неприступно. Сюда не проникал еще ни один паршивый жандарм, этих мест еще не осквернили султанские войска...
Однажды вечером, приближаясь к Ала-киою, Мехмед Синап вздрогнул от странного, непривычного зрелища. На площади у колодца, где обычно собирались женщины с коромыслами на плечах и котелками для воды, он застал два десятка заптиев с чаушем, который, завидя его, робко подошел к нему и передал «низкий поклон» от вали-паши.
— В чем дело? — строго спросил Синап. — У меня нет с вали-пашой никаких дел! Ты ошибся!
Чауш стоял смущенный и как бы несколько испуганный гневным тоном начальника, с которым ему было наказано держаться по меньшей мере как с пашой.
— Я привез зерно, эфенди, двести вьюков, по приказу вали-паши... — бормотал он, не понимая, почему Синап так недоволен.
— Зерно? — удивился Мехмед Синап; и в этот миг ему показалось, что перед его глазами пронеслись красные птицы.
В этом известии не было ничего отрадного. Когда овчар приносит добычу в логово волка, — значит, волчьему царству конец. Мехмед Синап разгадал хитрость.
Эти псы решили бороться. Они избрали вернейшее средство — вложить персты в рану. Подлая игра, которую следовало раскрыть. У него хотят отнять славу, призвание, титул защитника этого народа, хозяина Чечи!
Площадь кишела лошадьми и мулами, кругом толпились женщины и дети, которые с любопытством разглядывали посланцев султана с ружьями на плечах, в фесках с кисточками, с недоумением рассматривавших этот новый мир, куда еще ни разу не ступала нога жандарма.
Мехмед Синап стоял несколько минут в раздумье, потом, махнув рукой, кликнул своих людей:
— Эмина! Кьорходжа! Страхин! Я вас жду!
Площадь наполнилась вооруженными людьми, которые до этого, как видно, таились в тени деревьев.
— Уведите этих паршивых читаков!.. Пусть не думают, что мы слуги вали-паши... Мы враги султану и не нуждаемся в султанских милостях...
Чауш-албанец пытался возражать, но был повален наземь и связан. Солдаты тотчас же сдали оружие. Их заперли в хлев — чего они явно не ожидали; они подумали, что тут какая-то ошибка, недоразумение, ибо подчинились молча, безропотно.
Мехмед Синап приказал перенести зерно в общественный амбар. Он был поражен и с удивлением заметил, что у него даже руки дрожат.
Прошли годы с тех пор, как он стал хайдуком. Другие главари смирились. Об Индже и Кара Мустафе уже ничего не было слышно. Эминджик, говорили, был предательски отравлен властями. Об этом пелась песня, которую он слышал не раз:
Долетели злые вести
В Пашмаклы, село большое;
Плачут белые турчанки
В опустевших мрачных саклях,
Плачут малые младенцы
В обагренных колыбельках;
Стонут овчары младые
Среди гор своих высоких...
Эминджик! Можно ли этому поверить?
Не ему ли клялся он в вечной дружбе? А может быть, он в самом деле был отравлен, ибо яд — оружие, к которому часто прибегают они, эти высокопоставленные и сановные разбойники. Синап вспомнил его испитое, как у христианского святого, желтое лицо, его твердую решимость держаться до конца, и сказал себе, что прежде всего нужно верить в себя, а затем уже в других.
Синапу не оставалось другого выхода.
Он говорил себе:
— Мехмед, Мехмед, не забывай своей несчастной матери, горемычной вдовицы, которая ребенком водила тебя от одних родичей к другим, выпрашивая кусок хлеба...
Он все же успокоился. Случай с присланным зерном напомнил ему, что он должен быть на-чеку. Впрочем, он вспомнил, что писал Кара Ибрагиму, чтоб прислали двести вьюков зерна — а потом будет видно что делать. Важно, что они пробрались незамеченными до самого Машергидика. И это говорило, что противник не дремлет...
Синап приказал собрать народ. Через два дня, когда все было готово, он явился к своей жене и сказал:
— Гюла, мы спускаемся по делу на равнину. Ты смотри, береги детей и дом до нашего возвращения. Я привезу тебе дорогие подарки.
Гюла не ответила ничего. Она привыкла к слепому повиновению, но ее взгляд говорил о затаенной тревоге, которой она не могла скрыть; прижимаясь к его сильной груди, она лишь тихо и сдавленно прошептала:
— Мехмед, Мехмед, не уходи, не спускайся на равнину, брось это проклятое дело... Что-то мне говорит, что я тебя больше не увижу...