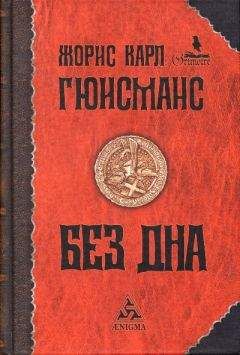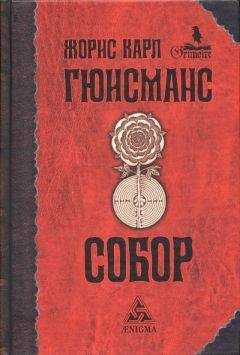— Художественной литературы у меня нет, но Дез Эрми дает мне почитать то, что ему самому интересно.
— Ты совсем заговорил человека, — сказала Каре жена, — дай же гостю сесть.
И она протянула Дюрталю полный стакан сидра, настоящего, пенящегося, ароматного. Он с удовольствием выпил и похвалил напиток.
Хозяйка рассказала, что сидр из Бретани, его приготовили ее родители, живущие в Ландевеннеке, на ее родине.
Радости ее не было предела, когда Дюрталь вспомнил, что когда-то провел день в этой деревушке.
— Выходит, мы старые знакомые, — заключила она, пожимая ему руку.
Дюрталь размяк от тепла печки, зигзагообразная, висевшая под потолком труба которой выходила наружу через лист жести, заменявший одно из оконных стекол, впрочем, возможно, виной тому была расслабляющая атмосфера доброжелательности, исходившая от Каре и его жены, немолодой женщины с изможденным, кажущимся несколько простоватым лицом и с жалостливым искренним взглядом. Мысли Дюрталя унеслись далеко. Глядя на эту уютную комнату, на этих славных людей, он думал: «Хорошо бы обзавестись такой вот гаванью, наведя, правда, здесь порядок, и в здоровой, приятной обстановке высоко над Парижем, под самыми облаками зажить отшельником, тогда бы я за несколько лет закончил книгу. Какое сказочное счастье обитать вне времени, перелистывать старинные манускрипты в приглушенном свете горящей лампы, не обращая внимания на бурный поток человеческой глупости, разбивающийся о подножие башни». Дюрталь невольно улыбнулся наивности своей мечты.
— Все равно тут у вас хорошо, — сказал он, как бы подводя итог своим размышлениям.
— Не обольщайтесь, — возразила хозяйка. — Помещение, правда, большое, у нас две спальни и несколько каморок, но здесь так неудобно и так холодно. И кухни нет, — заключила она, показывая на кухонную плиту, которую пришлось поставить прямо на тесной лестничной площадке. — И потом, я старею, мне уже трудно взбираться по стольким ступенькам, возвращаясь из магазина.
— В этом колодце и гвоздя не вобьешь, — грустно вздохнул звонарь. — Гнется о тесаный камень, и все тут. Впрочем, я-то пообвык, а вот она мечтает остаток своих дней провести в Ландевеннеке.
Дез Эрми поднялся. Хозяева дома и гости обменялись рукопожатиями, и чета Каре взяла с Дюрталя клятвенное обещание, что он придет еще.
— Какие замечательные люди! — воскликнул тот, когда они с Дез Эрми уже шли по площади.
— Не говоря уже о том, что Каре неоценимый советчик по самым разным вопросам. Он основательно разбирается в весьма премудрых материях.
— Но послушай, как же получилось, что столь образованный человек — такие на дороге не валяются — вдруг посвятил себя грубому физическому труду… как простой рабочий, в общем?
— Слышал бы он тебя! Средневековые мастера колокольного звона, видишь ли, были избранной кастой, и даже люди знатные относились к ним с подобающим уважением. Правда, сегодняшние звонари уже не те. Не знаю, почему Каре так увлекся колоколами: учился он в семинарии в Бретани, и там его посетили сомнения, достоин ли он сана священника. Каре приехал в Париж и поступил в ученики к очень образованному и весьма знающему мастеру колокольного звона отцу Жильберу, который у себя в келье, в соборе Нотр Дам, хранил редкие старинные карты Парижа. Сей почтенный мэтр тоже был отнюдь не ремесленником и истово коллекционировал документы, касающиеся парижской старины. После собора Нотр Дам Каре обосновался в Церкви Сен Сюльпис, где и работает уже пятнадцать лет.
— А ты-то как с ним познакомился?
— Сначала как врач. Потом мы подружились и дружим вот уже лет десять.
— Странно! Он совсем не похож на бывших семинаристов с их скрытным и угрюмым нравом.
— Каре осталось еще несколько лет, — как бы размышляя вслух, произнес Дез Эрми, — потом ему лучше было бы умереть. Церковные власти, которые уже провели в колокольни газ, не преминут обзавестись электрическими колоколами. Славное будет зрелище, когда все эти средневековые махины соединят проводами. Это будет чисто протестантский звон, короткий, резкий, словно приказ фельдфебеля, которому нельзя не подчиниться.
— Тогда-то жена Каре сможет переехать в свой родной Ле-Финистер!
— Не получится, они ведь очень бедны. И потом, без колоколов Каре пропадет — не вынесет разлуки со своими громогласными исполинами. Любопытно, как человек сживается с теми предметами, в которые вкладывает душу. Так рабочий холит свой станок. В конце концов, к вещи, которой ты управляешь и о которой заботишься, прикипаешь душой, как к живому существу. Положим, колокол — инструмент особый. Ему дают имя, как человеку, его освящают. Согласно церковным канонам, епископ освящает внутренность его чаши крестообразными помазаниями миром.{15} Ведь своим звоном колокол призван нести утешение умирающим в их предсмертных муках. Воистину, колокол — глашатай Церкви. Его глас звучит под небосводом, подобно тому, как под сводами храма звучит голос священника. Это отнюдь не мертвый слиток бронзы, перевернутая ступка, которую можно вот так запросто, как марионетку, дергать за веревочку. Добавлю тут же, что, подобно старым винам, колокола с годами облагораживаются. Их пение делается полнозвучнее, мягче, они теряют суховатость и резкость тона. Это отчасти объясняет, почему человек к ним так привязывается.
— Да ты, я смотрю, дока!
— Я? — засмеялся Дез Эрми. — Скажешь тоже, сам я в колоколах полный профан — лишь передаю слова Каре. Впрочем, если это тебя интересует, обратись к нему. Он расскажет тебе о символическом значении колоколов. В этом вопросе Каре неистощим, здесь ему нет равных, настоящий кладезь премудрости.
— Помню, — задумчиво сказал Дюрталь, — во время болезни я ночами, как избавления, ожидал утреннего призывного звона колоколов, ведь мой дом рядом с монастырем, на улице, где воздух с самого раннего утра напоен волнами благовеста. На рассвете я чувствовал, как далекие подспудные звуки ласково баюкают меня, осторожно покачивают, нежат. Казалось, в мою страждущую душу проливался целительный бальзам. Я словно воочию видел, как люди, стоя в церкви, молятся за других, а значит, и за меня. И мне уже не было так одиноко. Эти звуки и правда предназначены прежде всего страдающим бессонницей больным.
— Не только. Колокола укрощают воинственный дух. Если вдуматься, очень верна латинская надпись, сделанная на одном из них: «Смиряю ожесточенные сердца».
Беседа с Каре не давала Дюрталю покоя, когда он однажды вечером в одиночестве предавался на своем ложе размышлениям. Слова звонаря о том, что истинная церковная музыка — это колокольный звон, звучали у него в ушах. Мысль Дюрталя погрузилась в глубь веков, и он как бы увидел длинную череду средневековых монахов и коленопреклоненную паству, которая откликалась на призывный звон и по каплям вбирала в себя подобные чудодейственной панацее чистые мелодичные звуки колоколов.
Ожили в памяти все известные Дюрталю подробности старинных богослужений: благовест к заутрене, трезвон, рассыпавшийся, подобно зернам четок, по тесным извилистым улицам с остроконечными башенками, каменными щипцами крыш с круглыми сторожевыми вышками, зубчатыми стенами с бойницами, трезвон, отмечающий часы служб — первый, третий, шестой и девятый, — вечерню и повечерие. Радости горожан вторил звонкий смех маленьких колокольчиков, а их горю — скорбные рыдания тяжелых колоколов.
В ту пору звонари были истинными мастерами своего дела, которые отзывались на душевное состояние горожан, распространяя в воздухе звуки веселья или печати. И колокол, которому они служили, как покорные сыновья или преданные слуги, сделался, подобно самой Церкви, доступным и смиренным. Порой, в дни базаров и ярмарок, он, словно священник, совлекающий свое облачение, оставлял благочестивые звуки и вступал в беседу с простым людом, приглашая его в дождливое время под своды храма обсуждать свои проблемы, и святость места заставляла даже самых грубых при неизбежных спорах по запутанным торговым делам проявлять ныне навсегда утраченную порядочность.
Теперь язык колоколов утерян, их звуки невнятны, пусты и лишены сокровенного смысла. Каре не заблуждался на этот счет. Живя вне человеческого общества, в воздушном склепе, он верил в свое искусство, и, следовательно, теперь его жизнь лишалась всякого смысла. Он влачил жалкое существование никому не нужного изгоя, никчемность и допотопность которого в глазах праздной публики, беззаботно развлекавшейся на шумных концертах, была попросту смешна. Он казался каким-то ретроградом, чудом сохранившимся реликтом, схожим с обломком, выброшенным на берег рекою времен, обломком, до которого нет дела жалким теперешним носителям сутаны, тем, что зазывают роскошно одетую публику в свои церкви, смахивающие на гостиные, каватинами и вальсами, исполняемыми на больших органах — последняя степень кощунства! — теми, кто сочиняет светскую музыку, штампует балеты и пошлые комические оперетки.