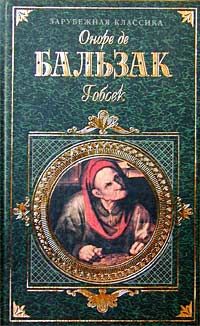— Ей-богу, по совести скажу, — уверяла меня привратница, моя старая знакомая, — сдается мне, он все это глотает, да только не на пользу себе исхудал, высох, почернел, будто кукушка на моих стенных часах.
Но вот в прошлый понедельник Гобсек прислал за мной инвалида, и тот, войдя ко мне в кабинет, сказал:
— Едемте скорее, господин Дервиль. Хозяин последний счет подводит, пожелтел, как лимон, торопится поговорить с вами. Смерть уж за глотку его схватила, в горле хрип клокочет.
Войдя в комнату умирающего, я, к удивлению своему, увидел, что он стоит на коленях у камина, хотя там не было огня, а только большая куча золы. Он слез с кровати и дополз до камина, но ползти обратно уже не было у него сил и не было голоса позвать на помощь.
— Старый друг мой, — сказал я, поднимая его и помогая ему добраться до постели. — Вам холодно? Почему вы не велите затопить камин?
— Мне вовсе не холодно, — сказал он. — Не надо топить, не надо! Я ухожу, голубчик, — промолвил он, помолчав, и бросил на меня угасший, тусклый взгляд. — Куда ухожу — не знаю, но ухожу отсюда. У меня уж карфология[4] началась, — добавил он, употребив медицинский термин, что указывало на полную ясность сознания. — Мне вдруг почудилось, будто по всей комнате золото катится, и я встал, чтобы подобрать его. Куда ж теперь все мое добро пойдет? Казне я его не оставлю; я завещание написал. Найди его, Гроций. У Прекрасной Голландки осталась дочь. Я как-то раз встретил ее вечером на улице Вивьен. Хорошенькая, как купидон. У нее прозвище — Огонек. Разыщи ее, Гроций. Я тебя душеприказчиком назначил. Бери тут все, что хочешь, кушай, еды у меня много. Паштеты из гусиной печенки есть, мешки кофе, сахару. Ложки есть золотые. Возьми для своей жены сервиз работы Одио. А кому же бриллианты? Ты нюхаешь табак, голубчик? У меня много табака, разных сортов. Продай его в Гамбург, там в полтора раза дороже дадут. Да, все у меня есть, и со всем надо расстаться. Ну, ну, папаша Гобсек, не трусь, будь верен себе…
Он приподнялся на постели; его лицо четко, как бронзовое, вырисовывалось на белой подушке. Протянув иссохшие руки, он вцепился костлявыми пальцами в одеяло, будто хотел за него удержаться, взглянул на камин, такой же холодный, как его металлический взгляд, и умер в полном сознании, явив своей привратнице, инвалиду и мне образ настороженного внимания, подобно тем старцам Древнего Рима, которых Летьер изобразил позади консулов на своей картине «Смерть детей Брута».
— Молодцом рассчитался, старый сквалыга! — по-солдатски отчеканил инвалид.
А у меня все еще звучало в ушах фантастическое перечисление богатств, которое я слышал от умершего, и я невольно посмотрел на кучу золы в камине, увидев, что к ней устремлены его застывшие глаза. Величина этой кучи поразила меня. Я взял каминные щипцы и, сунув их в золу, наткнулся на что-то твердое, — там лежала груда золота и серебра, вероятно, его доходы за время болезни. У него уже не было сил припрятать их получше, а недоверчивость не позволяла отослать все это в банк.
— Бегите к мировому судье! — сказал я инвалиду. — Надо тут немедленно все опечатать.
Вспомнив поразившие меня последние слова Гобсека и то, что мне говорила привратница, я взял ключи от комнат обоих этажей и решил осмотреть их. В первой же комнате, которую я отпер, я нашел объяснение его речам, казавшимся мне бессмысленными, и увидел, до чего может дойти скупость, превратившаяся в безотчетную, лишенную всякой логики страсть, примеры которой мы так часто видим в провинции. В комнате, смежной со спальней покойного, действительно оказались и гниющие паштеты, и груды всевозможных припасов, даже устрицы и рыба, покрывшаяся пухлой плесенью. Я чуть не задохся от смрада, в котором слились всякие зловонные запахи. Все кишело червями и насекомыми. Подношения, полученные недавно, лежали вперемешку с ящиками различных размеров, с цибиками чаю и мешками кофе. На камине в серебряной суповой миске хранились накладные различных грузов, прибывших на его имя в портовые склады Гавра: тюков хлопка, ящиков сахара, бочонков рома, кофе, индиго, табака — целого базара колониальных товаров! Комнату загромождала дорогая мебель, серебряная утварь, лампы, картины, вазы, книги, превосходные гравюры без рам, свернутые трубкой, и самые разнообразные редкости. Возможно, что не вся эта груда ценных вещей состояла из подарков — многие из них, вероятно, были невыкупленными закладами. Я видел там ларчики с драгоценностями, украшенные гербами и вензелями, прекрасные камчатные скатерти и салфетки, дорогое оружие, но без клейма. Раскрыв какую-то книгу, казалось, недавно вынимавшуюся из стопки, я обнаружил в ней несколько банковских билетов по тысяче франков. Тогда я решил внимательно осмотреть каждую вещь, вплоть до самых маленьких, все перевернуть, исследовать половицы, потолки, стены, карнизы, чтобы разыскать золото, к которому питал такую алчную страсть этот голландец, достойный кисти Рембрандта. Никогда еще в своей юридической практике я не встречал такого удивительного сочетания скупости со своеобразием характера. Вернувшись в спальню умершего, я нашел на его письменном столе разгадку постепенного скопления всех этих богатств. Под пресс-папье лежала переписка Гобсека с торговцами, которым он обычно продавал подарки своих клиентов. Но оттого ли, что купцы не раз оказывались жертвами уловок Гобсека, или оттого, что он слишком дорого запрашивал за съестные припасы и вещи, ни одна сделка не состоялась. Он не желал продавать накопившуюся у него снедь в магазин Шеве, потому что Шеве требовал тридцатипроцентной скидки. Он торговался из-за нескольких франков, а в это время товар портился. Серебро не было продано, потому что Гобсек отказывался брать на себя расходы по доставке. Мешки кофе залежались, так как он не желал скинуть на утруску. Словом, каждый предмет сделки служил ему поводом для бесконечных споров, — несомненный признак, что он уже впал в детство и проявлял то дикое упрямство, что развивается у всех стариков, одержимых какой-либо страстью, пережившей у них разум. И я задал себе тот же вопрос, который слышал от него: кому же достанется все это богатство?.. Вспомнив, какие странные сведения он дал мне о своей единственной наследнице, я понял, что мне придется вести розыски во всех злачных местах Парижа и отдать огромное богатство в руки какой-то непотребной женщины. Но прежде всего знайте, что в силу совершенно бесспорных документов граф Эрнест де Ресто на днях вступит во владение состоянием, которое позволит ему жениться на мадемуазель Камилле да еще выделить достаточный капитал матери и брату, а сестре приданое.
— Хорошо, дорогой Дервиль, мы подумаем, — ответила госпожа де Гранлье. — Господину де Ресто нужно быть очень богатым, чтобы такая семья, как наша, согласилась породниться с его матерью. Не забывайте, что мой сын рано или поздно станет герцогом де Гранлье и объединит состояние двух ветвей нашего рода. Я хочу, чтобы зять был ему под пару.
— А вы знаете, — спросил граф де Борн, — какой герб у Ресто? Четырехчастное червленое поле с серебряной полосой и черными крестами. Очень древний герб.
— Это верно, — подтвердила виконтесса, — к тому же Камилла может и не встречаться со своей свекровью, нарушительницей девиза на этом гербе — Res tuta.[5]
— Госпожа де Босеан принимала у себя графиню де Ресто, — заметил старик дядюшка.
— О, только на раутах! — возразила виконтесса.
Париж, январь 1830 г.
De viris illustribus (лат.) («О знаменитых мужах») — сочинение римского историка Корнелия Непота (I в. до н. э.).
Живоглот (фр.).
Гроций Гуго (1583–1645) — голландский юрист и реакционный государственный деятель, был провозглашен «отцом международного права».
Карфология — бессознательное движение рук у умирающего.
Res tuta (лат.) — надежность.