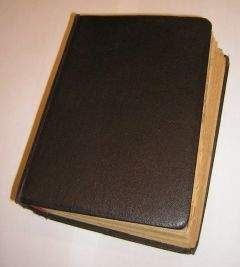В палате на шестнадцать коек находилось всего пять человек. Один из них был уже мертв. Он умер два часа тому назад, был покрыт белой простыней, и звали его, как того ученого, который открыл холерный вибрион. Это был майор Кох, о котором говорил штаб-лекарь, что его надо будет похоронить завтра вместе с кадетом Биглером.
Кадет Биглер сел на своей койке и впервые увидел, как люди умирают от холеры во славу его императорского величества, ибо двое из остальных находились в агонии. Они задыхались; лица их посинели, и из уст их вылетали какие-то отрывистые слова, причем нельзя было даже понять, на каком языке они говорили.
Это было скорее похоже на придушенный хрип.
Двое других с необычайно бурной реакцией выздоравливающих напоминали людей, охваченных тифозной горячкой. Они кричали что-то совершенно нечленораздельное и бешено дрыгали под одеялом исхудалыми ногами. Возле них стоял бородатый санитар, который пытался успокоить их, повторяя на своем штирийском (как догадался кадет Биглер) диалекте:
— У меня тоже была холера, золотые вы мои, но только я не дрыгал так, как вы. Теперь-то вам уж будет хорошо. Получите отпуск… Да не брыкайся ты! — накинулся он вдруг на одного из больных, когда тот так поддал одеяло, что оно замоталось вокруг его головы. — Этого у нас не полагается. Будь рад, что у тебя лихорадка, а то тебя выпроводили бы отсюда с музыкой. Нечего с вами валандаться.
Он оглянулся.
— Вон там те двое уже померли. Что ж, мы так и думали, — добродушно добавил он. — А вы из этой грязной истории выкарабкаетесь!.. Ну, надо итти за простынями.
Вскоре он вернулся с простынями. Он прикрыл ими покойников, у которых губы совершенно почернели, скрестил им руки с черными ногтями и немало потрудился, чтобы втиснуть им во рты далеко высунувшиеся языки; затем он опустился возле коек на колени и забубнил:
— Пресвятая дева Мария, пречистая богородица…
И старый санитар из Штирии строго поглядывал при этом на своих выздоравливающих пациентов, у которых буйная горячка означала возврат к новой жизни.
— Пресвятая дева Мария, пречистая богородица, — повторил он, когда какой-то совершенно голый человек хлопнул его по плечу.
Это был кадет Биглер.
— Послушайте, — сказал Биглер, — я купался. То есть, меня выкупали… Мне… н-н-надо одеяло. –Я… з-з-замерз…
— Это исключительный случай, — говорил полчаса спустя тот же самый штаб-лекарь кадету Биглеру, отдыхавшему под одеялом. — Вы на пути к выздоровлению, господии кадет. Завтра мы переведем вас в запасный госпиталь в Тарнов. Вы — носитель холерных вибрионов… Наука настолько далеко ушла вперед, что мы все это вполне можем распознать… Вы — из 91-го полка?..
— 13-го маршевого батальона, — ответил за кадета Биглера старший санитар, — 11-й роты,
—Пишите, — сказал штаб-лекарь: — «Кадет Биглер, 13-го маршевого батальона, 11-й роты, 91-го пехотного полка, препровождается для наблюдения в холерный барак в Тарнов как подозрительный по холере...»
Таким-то вот образом храбрый вояка кадет Биглер превратился в «подозрительного носителя холерных вибрионов».
Глава вторая В БУДАПЕШТЕ
На вокзале в Будапеште Матушич подал капитану Сагнеру телеграмму из штаба, которую послал несчастный командир бригады, отправленный тем временем в санаторию. Телеграмма была того же содержания, что и полученная на последней остановке: «Немедленно накормить людей, двинуться дальше в Сокаль». Однако, в ней было еще такое добавление: «Обоз включить в восточную группу. Разведывательная служба отменяется. 13-й маршевый батальон строит мост через Буг. Подробности в газетах».
Капитан Сагнер тотчас же отправился к коменданту станции. Его встретил с любезной улыбкой маленький, толстенький офицер.
— Ну и натворил же ваш бригадный! — сказал он, широко улыбаясь. — Однако, мне пришлось вручить вам эту чепуху, потому что из дивизии еще не получено распоряжения не отдавать его телеграмм адресатам. Вот, например, вчера проходил здесь 14-й маршевый батальон 75-го полка, а на имя начальника была получена телеграмма, чтобы выдать всем нижним чинам в награду за Перемышль по шести крон, и вместе с тем приказ, чтобы из этих шести крон каждый нижний чин внес в канцелярию по две кроны на военный заем… По достоверным сведениям, у нашего бригадного — прогрессивный паралич!
— Господин майор, — сказал капитан Сагнер коменданту станции, — согласно полковому приказу мы едем по маршруту в Гэдэллэ. Люди должны получить здесь по сто пятьдесят грамм эмментальскогох сыра[13]. На последней станции люди должны были получить по сто пятьдесят грамм венгерской колбасы. Но они ничего не получили.
— Повидимому, и тут ничего из этого дела не выйдет, — не переставая любезно улыбаться, ответил майор. — Мне ничего неизвестно о соответствующем приказе для чешских полков. Впрочем, это на мое дело. Обратитесь в продовольственную часть.
— А когда мы отправляемся дальше, господии майор?
— Впереди вас стоит поезд с тяжелой артиллерией для Галиции. Его мы отправляем через час, господин капитан. На третьем пути стоит санитарный поезд, который пойдет через двадцать пять минут после артиллерийского. На двенадцатом пути у нас есть поезд с боевыми припасами. Он будет отправлен через десять минут после санитарного, а двадцатью минутами позже пойдет ваш… При условии, что не будет никаких изменений, — прибавил майор, особенно любезно улыбаясь.
Теперь он показался капитану Сагнеру очень несимпатичным.
— Позвольте, господин майор, — сказал Сагнер, — не могли ли бы вы объяснить мне, каким это образом вам ничего неизвестно о приказе по поводу выдачи по сто пятьдесят грамм эмментальского сыра солдатам чешских полков.
— Это — секретное распоряжение — ответил капитану Сагнеру комендант станции Будапешт, все время продолжая улыбаться.
«Значит, я здорово влопался, — подумал капитан Сагнер, выходя от коменданта. — И какого чорта я велел Лукашу собрать всех отделенных начальников и итти с ними получать из продовольственной части этот несчастный сыр!»
Но прежде, чем командир 11-й роты, поручик Лукаш, распорядился, согласно приказанию капитана Сагнера, отправить людей в продовольственный склад, где надо было получить эмментальскии сыр из расчета по сто пятьдесят грамм на человека, перед поручиком вдруг вынырнул Швейк с горе-солдатом Балоуном.
Балоун дрожал всем телом.
— Так что дозвольте доложить, господин поручик, — со своей обычной находчивостью сказал Швейк, — дело, о котором у нас будет речь, чрезвычайно важное. Я хотел бы попросить вас, господин поручик, покончить с этим где-нибудь по соседству, как выразился мой приятель Шпатина из Згоржа, когда ему как-то пришлось быть шафером на свадьбе, а в церкви ему вдруг захотелось…
— В чем же дело, Швейк? — перебил его поручик Лукаш, который успел уже так же соскучиться по Швейке, как тот по нем. — Пройдемте немного вперед.
Балоун шел за ними, не переставая дрожать. Этот великан совершенно потерял душевное равновесие и в безнадежном отчаянии размахивал руками.
— Ну так в чем же дело, Швейк? — повторил поручик Лукаш, когда они отошли подальше.
— Так что дозвольте доложить, господин поручик,— сказал Швейк, — всегда лучше сознаться раньше, чем все полетит кувырком. Вы, господин поручик, изволили строго приказать Балоуну, чтобы он до прибытия в Будапешт принес вам паштет из гусиной печенки и булку… Говори, было тебе приказано, или нет? — обратился он к Балоуну.
Балоун стал только еще сильнее размахивать руками, словно отбиваясь от наседающего на него врага.
— Это приказание, — продолжал Швейк, — с божьего соизволения не может быть выполнено, господин поручик. Я ваш паштет сожрал!.. Да, это я его сожрал, — твердым голосом повторил Швейк, толкнув перепуганного Балоуна в бок, — потому что я думал, что такой паштет легко может испортиться. Мне не раз приходилось читать в газетах, что даже целые семьи отравлялись паштетами. Один такой случай был в Здеразе, другой — в Бероуне, третий — в Таборе, четвертый — в Младоболеславе и пятый — в Пшибраме. И все эти случаи окончились смертью… Ведь такой паштет из гусиной печенки — это тот же яд!..
Балоун, дрожавший всем телом, отступил несколько шагов в сторону, сунул себе палец в рот, и его стало рвать.
— Что с вами, Балоун?
— Ой, тошнехонько, господин поручик, мутит меня очень, — воскликнул Балоун, воспользовавшись передышкой между двумя приступами рвоты. — Ведь это ж я его слопал, я, один…
Изо рта страдальца Балоуна вылетали даже кусочки станиолевой оболочки паштета.
— Как вы сами видите, господин поручик, — промолвил Швейк, нисколько не теряя своего самообладания,— каждый такой съеденный паштет выходит обратно, как масло из воды. Я хотел все взять на себя, а этот дурак сам себя выдал. Он, вообще, очень порядочный человек, но только непременно слопает все, что ему ни дай… Вот я также знал одного такого человека. Он был курьером в банке; ему можно было доверять большие-большие деньги. Как-то раз он получал деньги из другого банка, и ему выдали на тысячу крон больше, чем следовало, но он сейчас же снес их обратно. А вот если ему, бывало, велят принести на пятнадцать крейцеров полендвицы или чайной колбасы, — он половину слопает по дороге. Ужасно прожорливый был человек! И когда его посылали за ливерной колбасой, он по дороге надрежет, бывало, колбасу перочинным ножичком, середку выест, а потом залепит дырки английским пластырем; а ведь этот пластырь, если он им залеплял пять колбас, обходился ему дороже одной целой колбасы!