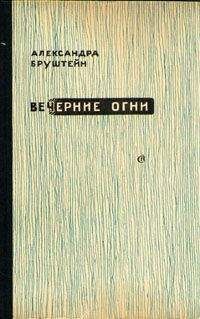Софья Петровна Лихутина на стенах поразвесила японские пейзажи, изображавшие вид горы Фузи-Ямы, – все до единого; в развешанных пейзажиках вовсе не было перспективы; но и в комнатках, туго набитых креслами, софами, пуфами, веерами и живыми японскими хризантемами, тоже не было перспективы: перспективой являлся то атласный альков, из-за которого выпорхнет Софья Петровна, или с двери слетающий, шепчущий что-то тростник, из которого выпорхнет все она же, а то Фузи-Яма – пестрый фон ее роскошных волос; надо сказать: когда Софья Петровна Лихутина в своем розовом кимоно по утрам пролетала из-за двери к алькову, то она была настоящей японочкой. Перспективы же не было.
Комнатки были – малые комнатки: каждую занимал лишь один огромный предмет: в крошечной спальной постель была огромным предметом; ванна – в крошечной ванной; в гостиной – голубоватый альков; стол с буфетом – в столовой; тем предметом в комнатке для прислуги – была горничная; тем предметом в мужниной комнате был, разумеется, муж.
Ну, откуда же быть перспективе?
Все шесть крохотных комнатушек отоплялися паровым отоплением, отчего в квартирке задушивал вас влажный оранжерейный жар; стекла окон потели; и потел посетитель Софьи Петровны; вечно потели – и прислуга, и муж; сама Софья Петровна Лихутина покрывалась испариной, будто теплой росой японская хризантема. Ну, откуда же в этой тепличке завестись перспективе?
Перспективы и не было.
Посетители Софьи Петровны
Посетитель оранжерейки Софьи Петровны, ангела Пери (кстати сказать, обязанный ангелу поставлять хризантемы), всегда ей хвалил японские пейзажи, присоединяя попутно свои рассуждения о живописи вообще; и наморщивши черные бровки, ангел Пери веско как-то выпаливал: «Пейзаж этот принадлежит перу Xадусаи»… ангел решительно путал как все собственные имена, так и все иностранные слова. Посетитель художник обижался при этом; и впоследствии к ангелу Пери не обращался с рацеями о живописи вообще: между тем этот ангел на последние свои карманные деньги накупал пейзажи и подолгу-подолгу в одиночестве любовался на них.
Посетителя Софья Петровна не занимала ничем: если это был светский молодой человек, преданный увеселениям, она считала нужным хохотать по поводу всех его и шутливых, и шутливых не вовсе, и серьезнейших слов; на все она хохотала, становилась пунцовой от хохота, и испарина покрывала ее крохотный носик; светский молодой человек становился тогда отчего-то также пунцовым; испарина покрывала и его нос: светский молодой человек удивляяся ее молодому, но далеко не светскому хохоту; удивляяся так, относил Софью Петровну Лихутину к демимонду; между тем на стол появлялась кружка с надписью «благотворительный сбор» и Софья Петровна Лихутина, ангел Пери, хохоча, восклицала: «Вы опять сказали мне фифку – платите же». (Софья Петровна учредила недавно благотворительный сбор в пользу безработных за каждую светскую фифку: фифками почему-то называла она нарочито сказанную глупость, производя это слово от «ф и»…) И барон Оммау-Оммергау, желтый Ее Величества кирасир, и граф Авен, кирасир синий, и лейб-гусар Шпорышев, и чиновник особых поручений в канцелярии Аблеухова Вергефден (все светские молодые люди) говорили за фифкою фифку, кладя в жестяную кружку двугривенный за двугривенным.
Почему же у ней бывали столькие офицеры? Боже мой, она танцевала на балах; и не будучи демимондною дамой, была дамой хорошенькой; наконец, она была офицершею.
Если же посетитель Софьи Петровны оказывался или сам музыкант, или сам музыкальный критик, или просто любитель музыки, Софья Петровна поясняла ему, что ее кумиры – Дункани Никиш; в восторженных выражениях, не столько словесных, сколько жестикуляционных, она поясняла, что и сама намерена изучить мелопластику, чтоб исполнить танец полета Валькирий ни более ни менее как в Байрейте; музыкант, музыкальный критик или просто любитель музыки, потрясенный неверным произнесением двух собственных имен (сам-то он произносил Денкан, Никиш, а не Дункан и Никиш), заключал, что Софья Петровна Лихутина просто-напросто пустая бабенка; и становился игривее; между тем очень хорошенькая прислуга вносила в комнатку граммофон: и из красной трубы жестяное горло граммофона изрыгало на гостя полет Валькирий. Что Софья Петровна Лихутина не пропускала ни одной модной оперы, это обстоятельство гость забывал: становился пунцовым и чрезмерно развязным. Такой гость выставлялся за дверь Софьей Петровной Лихутиной; и потому музыканты, игравшие для светского общества, были редки в оранжерейке; представители же светского общества граф Авен, барон Оммау-Оммергау, Шпорышев и Вергефден не позволяли себе неприличных выходок по отношению все-таки к офицерше, носившей фамилию стародворянского рода Лихутиных: поэтому и граф Авен, и барон Оммау-Оммергау, и Шпорышев, и Вергефден продолжали бывать. В их числе одно время частенько еще вращался студент, Николенька Аблеухов. И потом вдруг исчез.
Посетители Софьи Петровны как-то сами собою распались на две категории: на категорию светских гостей и на гостей так сказать. Эти, так сказать, гости были вовсе не гости: это были все желанные посетители… для отвода души; посетители эти не добивались быть принятыми в оранжерейке; нисколько! Их почти силком к себе затаскивал ангел; и, силком затащив, тотчас же отдавал им визит: в их присутствии ангел Пери сидел с поджатыми губками: не хохотал, не капризничал, не кокетничал вовсе, проявляя крайнюю робость и крайнюю немоту, а так сказать гости бурно спорили друг с другом. И слышалось: «революция – эволюция».
И опять: «революция – эволюция». Все только об одном и спорили эти, так сказать, гости; то была все ни золотая, ни даже серебряная молодежь: то была медная, бедная молодежь, получавшая воспитание на свои трудовые гроши; словом, то была учащаяся молодежь высших учебных заведений, щеголявшая обилием иностранных слов: «социальная революция». И опять-таки: «социальная эволюция». Ангел Пери неизменно спутывал те слова.
Офицер: Сергей Сергеич Лихутин
Среди прочей учащейся молодежи зачастила к Лихутиным одна в том кругу уважаемая, светлая личность: курсистка, Варвара Евграфовна (здесь могла Варвара Евграфовна изредка повстречать самого Nicolas Аблеухова).
Под влиянием светлой особы ангел Пери однажды осветил своим присутствием – ну, представьте же: митинг! Под влиянием светлой особы ангел Пери поставил на стол и самую свою медную кружку с туманною надписью: «Благотворительный сбор». Разумеется, эта кружка была предназначена для гостей; все же личности, относящиеся к гостям так сказать, раз навсегда Софьей Петровной Лихутиной от поборов освобождались; но поборами были обложены и граф Авен, и барон Оммау-Оммергау, и Шпорышев, и Вергефден. Под влиянием той же светлой особы ангел Пери стал захаживать по утрам в городскую школу О. О. и долбил без всякого толку «Манифест» Карла Маркса. Дело в том, что в ту пору у нее ежедневно бывал студент, Николенька Аблеухов, которого можно было без риску ей познакомить как с Варварой Евграфовной (влюбленной в Николеньку), так и с желтым Ее Величества кирасиром. Аблеухов, как сын Аблеухова, всюду, конечно, был принят.
Впрочем, с той поры, как Николенька перестал вдруг бывать у ангела Пери, этот ангел тайком от гостей так сказать упорхнул вдруг к спиритам, к баронессе (ну, как ее?), собиравшейся поступить в монастырь. С той поры на столике перед Софьей Петровной красовалась великолепно переплетенная книжечка «Человек и его тела» какой-то госпожи Анри Безансон (Софья Петровна опять-таки путала: не Анри Безансон – Анни Безант).
Свое новое увлечение Софья Петровна старательно скрыла как от барона Оммау-Оммергау, так и от Варвары Евграфовны; несмотря на свой заразительный смех и на крошечный лобик, скрытность ангела Пери достигала невероятных размеров: так, Варвара Евграфовна ни разу не встретилась с графом Авеном, ни даже с бароном Оммау-Оммергау. Разве только однажды в передней она увидала случайно меховую лейб-гусарскую шапку с султаном. Но об этой лейб-гусарской шапке с султаном впоследствии не было речи.
Что под всем этим крылось? Бог весть!
Был еще один посетитель Софьи Петровны Лихутиной; офицер: Сергей Сергеевич Лихутин; собственно говоря, это был ее муж; он заведовал где-то там провиантом; рано поутру уходил он из дому; появлялся дома не ранее полуночи; одинаково кротко здоровался просто с гостями и с гостями так сказать, с одинаковой кротостью говорил для приличия фифку, опуская в кружку двугривенный (если были при этом граф Авен или барон Оммау-Оммергау), или скромно кивал головой на слова «революция – эволюция», выпивал чашку чая и шел в свою комнату; молодые светские люди про себя его называли армейчиком, а учащаяся молодежь – офицером-бурбоном (в девятьсот пятом году Сергей Сергеич имел несчастие защищать от рабочих своей полуротою Николаевский Мост). Собственно говоря, Сергей Сергеич Лихутин охотнее всего воздержался бы и от фифок, и от слов «революция – эволюция». Собственно говоря, он не прочь был бы попасть к баронессе на спиритический сеансик; но о своем скромном желании на правах мужа вовсе он не настаивал, ибо вовсе он не был деспотом по отношению к Софье Петровне: Софью Петровну любил он всею силой души; более того: два с половиною года тому назад он женился на ней вопреки желанью родителей, богатейших симбирских помещиков; с той поры он был проклят отцом и лишен состояния; с той поры для всех неожиданно скромно он поступил в Григорийский полк.