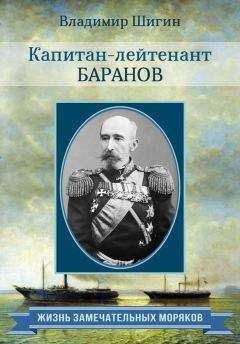— Какого Андрюшку?
— А Клашкина ухажера. Он в те поры на действительную уезжал. Ну, вот мы и стакнулись одинова. Годов уж десять прошло после этого.
— Что, Клаша замужем была? — как бы невзначай спросил Дима, волнуясь и намыливая голову.
— Выхаживала. Только не за Ондрея.
— Как так?
— А вот как вышло нескладно, что и вчуже ее жалко. Робят теперь, сам знаешь, как волосья у бабы на коленке, нету робят молоденьких, а за ей тогда много бегало…
Федулович обмакнул веник в холодную воду и начал хлестать себя по ногам.
— …Беда с этой молодяжкой. Ондрюшка к ней тогда и повадился — всех отшиб. Работал он на машине в другом колхозе. Бывало, кажинный вечер прикатит, прямо на машине, да и Клашка-то к ему зачастую посещала. А он у моего дома все машину ставил. Один раз приезжает — хлесть бутылку на стол, давай, говорит, дедко, закуску, меня на службу берут. А у меня как раз баня истопилась. Варовый был парень. Мы с ним после бани-то и накукарекались, да так, что я об одном сапоге на пече ночевал. Старуха ругается, а на Ондрюшку ничево. Да и крепок парень, пошел ко своей Клашке как стеклышко. Да. Уехал он, значит, на службу, а Клашке-то все время письма писал. В каждом письме, бывало, и мне со старухой поклон напишет. Далеко где-то служил, на самой Камчатке. Ну, вот, отслужился парень да и остался на сверхурочную, а Клашке пишет, что так и так, приезжай сюда, меня не отпускают пока. Денег послал ей на дорогу, маршрут весь прописал. Она, значит, туда-сюда. Клашка-то срядилась ехать к ему, а документов ей не дают, да и только. Девка расстроилась, с лица спала. Чуть не год экая канитель и тянулась.
Федулович вновь начал махать веником, и в бане заходил жаркий ветер. Дима сел на порог, не пропуская ни одного слова.
— …Похудела вся, глаза провалились. А тут он и писать ей перестал, горяч парень, может, что и худое про ее подумал. Шарах-ни-ко, Митрей, на каменку-то разок, да воду не жалей, побольше шарахни! Да. Приехал, понимаешь, тово году Ленька Криулин из заключенья, устроился в леспромхозе роботать да и начал Клашку охаживать, начал круг ее виться. Она ни в какую, иди, говорит, от меня и не приставай лучше. Не отступается, дьяволенок, ходит и ходит прямо на дом. Вот пораз пришла ко мне Клашка да как заревит. А я что, чем я ей могу пособить, ежели и годов много и грамоте не обучен почти. Ушла она молчаливая такая, а на другой день, чую, бабы на льне судачат, что расписалась Клашка с Криулиным. Выматюкался я, помню, до того мне обидно стало. Потом вышло, что зря я ее обматюкал. Уехала она в леспромхоз с Криулиным, получила там документы и кряду маханула к своему Ондрюшке на самую что ни на есть Камчатку.
Федулович, тяжко пышкая, опустился на средний полок и поплескал на лицо холодной воды.
— Вот, брат Митрей, какая Клашка оказалась.
— Ну, и потом что?
— А што потом, потом стала кошка котом, вот што потом. Приехала вдругорядь домой, не вдова, не мужняя жена. Ондрей-то, видно, денег дал ей на обратную путь, а разговаривать с ей не стал, видать. Нелюбо показалось, что не девкой к нему приехала… С тово году и живет она одна с маткой. Криулина близко не подпускает и замуж ни за ково не выходит. А все грамотки, какие в леспромхозе выправила, при мне пораз в печь сгоряча кинула. Теперече-то поменьше ревит, а тогда сама не своя года три ходила…
Федулович вылил на шипучую каменку еще полведра и начал париться по второму заходу.
…После бани они выпили четвертинку. Дима собрал инструмент и бумаги, пошел спать на сено. Он долго не мог уснуть. Сено под ним шуршало и потрескивало, Дима ворочался с боку на бок. Утром он проснулся на восходе от содома, поднятого глупыми курицами. Федулович уже давно встал и чинил свою сумку, зашивал ее по шву черной дратвой. Он уже отослал с молоковозом Димин инструмент и пробы земли. Дима позавтракал, распрощался с доброй Федуловичевой старухой, обнял его самого и пешком пошел из деревни.
— Приезжай, Митрей, на другое лето! — кричал Федулович с крылечка. — Попаримся, ежели не умру за зиму!
Дима помахал ему и ступил на жидкие жерди, перекинутые в самом узком месте через речку. Выйдя на другой берег, он оглянулся на деревню, на баню и увидел Клашу. Она шла по своей тропке с ведрами воды на кривом водоносе; одна рука ее, согнутая в локте, опиралась на бедро, другой рукой Клавдия поддерживала водонос.
Дима проводил ее новым, совсем новым целомудренным взглядом и выбрался на проселок.
Вдоль проселка томились еще не успевшие погибнуть под острой косой густые цветастые травы, и в небе неподвижно клубились пухлые, ленивые облака.
Дело было зимой, в невьюжную теплую пору. Недлинный, короче воробьиного носа день не раздвигал сумерки: серые утром, вечером синие. В такое время едва засветло обернешь в лес за дровами, или вытолкешь и прополощешь белье на реке, или сходишь до сельсовета. Темно и тихо.
На краю соседнего посада, у Мироновых вздули огонь. Два окна занялись желтым светом, обозначились крестовины рам, и на улице сразу стало темнее. Уже несколько раз Мироновы обедали при огне. Мирониха-бабка холщовой скатертью накрыла стол, выложила две ложки с хлебом:
— На-ко сам да и режь. Ножик-то еле скыркает.
Миронов вывернул огонь, поглядел на ножик.
— Недавно вроде бы и точил.
— Сиди, недавно. Говорят, ножик в доме туп, дак хозяин глуп. На первый май поточил, а больше не притрагивался.
— Лучину, поди, им щепала, вот и довела.
Миронов нарезал хлеба, посолил похлебку:
— Чего и наварила. Одно полосканье. — Он подул на ложку, схлебнул. — Борька-то не пришел, что ли?
— Какое, пришел, — бабка, не глядя на икону, машинально помахала щепоткой пальцев. — Верка клубная бежала из конторы, дак сказывала. Говорит, Миша-петушок третий день пьет, а Борьку председатель заместо его послал на машине. За обменными семенами поехали.
— Председатель когда ехал, так и сам лыка не вяжет. Вывалился у моста из саней.
— Да у кого он эдак?
— У Трихи, наверно. А может, и еще кто умасливал.
Хлебали они из одного блюда. Лампа горела ровно, освещая простенки, оклеенные клетчатыми обоями, заборку с гвоздями-вешалками, полати, недавно выбеленную печку с поленьями лучины наверху. Шкап, отделявший Борькину деревянную кровать, стоял на середине избы и вместе с печным щитком образовывал проход, который был занавешен ситцевыми шторками. В этот проход и в кухню, к шестку, были раскинуты самотканые половики, белые лавки стояли у главных стен, в углу мерцала икона, зеркало, календарь и рамки с фотокарточками висели на гвоздиках. Потолок с подвешенной к нему висячей лампой был оклеен белой, еще не успевшей пожелтеть бумагой. Над полатями, что висели от шкапа до печи и до дверей, где спал старик Миронов, потолок не оклеили, и он был там коричнево-черным. Большой крюк для очепа, на котором когда-то качалась колыбель, все еще торчал из матицы, напоминая о давно минувшем семейном расцвете. Последним на этом очепе укачивался ревун Борька — самый младший сын Мироновых. Было это двадцать лет назад, внукам же и правнукам Григория Ермолаевича качаться тут не пришлось: все они родились и выросли в дальних городах. Очеп Мироновых теперь валяется на сарае, а сама зыбка служит Борьке заместо ящика, куда складываются всякие железяки и запчасти.
— Самовар-от сейчас поставить аль погодить? — спросила бабка.
— Погодим часок. Может, приедет.
Григорий Ермолаевич облизал ложку и начал закуривать. Он долго вытаскивал курево из кармана стеганых ватных штанов. Портошины штанов были до того толсты, что голенища серых валенок пришлось надрезать. Кроме этих штанов и валенок, на Миронове была синяя в белую мелкую полоску рубашка и поверх ее шубная жилетка с пуговицами, сделанными из межпозвоночных кружочков от заколотого с осени барана. На таких подробностях, вроде этих пуговиц, можно было бы и не останавливаться. Но характер Миронова до того неуловим, до того разнообразен в своих проявлениях, что представить его без этих скучных подробностей весьма трудно. Взять хотя бы те же пуговицы. Конечно, в сельповской лавке есть куда более лучшие пуговицы. Они и красивее мироновских, и дешевле бы обошлись. Миронов три вечера шлифовал и прокалывал дырки на бараньих кружочках. Разумеется, иной ретивый писака, привыкший каждого крестьянина считать мелким собственником, а то и просто-напросто кулаком, увидел бы в этих пуговицах извечную скаредность русского мужика. А какая же в том скаредность? Единственный мироновский баран был заколот с первым заморозком. Пока Григорий Ермолаевич разделывал тушку и мыл потроха, Мирониха опалила баранью голову и четыре ножки на угольях. Баранья голова и ножки висят сейчас в чулане, когда-нибудь, может летом, из них будет сварен вкуснейший студень. А пока они хранятся, привязанные к потолку от котов. Скаредность? Вряд ли. Интересно, что даже мочевой пузырь от барана был пущен в дело. Его Миронов долго разминал в коротких мозолистых ладонях, потом, зажмурившись, плотно надул, завязал ниточкой и подвесил к полавошнику. Получилось точь-в-точь как резиновый шар, какие продаются в городах, только серый и намного прочнее. Баранью шкуру сдали государству, потроха и осердье (т. е. легкие, печень, сердце) варили чуть ли не до нового года, заднюю половину, т. е. самую лучшую часть пришлось продать на рынке, а остальное Мирониха частью извя-лила в печке, частью послала в посылке дочке на Север. Таким образом, все от барана ушло на пользу. Но опять же не из жадности, а скорее из традиции, по какому-то извечному и священному для трудового человека обычаю, в котором так естественно и прочно слились воедино польза и приятность, физическое и духовное.