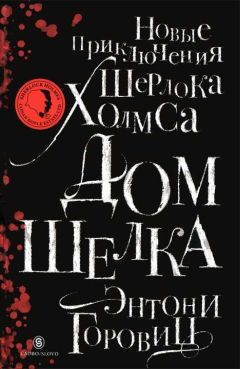В десять минут восьмого он вскочил и засуетился. Свеча продолжала гореть, так как дневного света было еще недостаточно. Растопив дыханьем один из ледяных цветков на стекле, Ганно увидел сплошной туман за окном.
Он страшно мерз. Минутами все его тело дрожало от холода. Кончики пальцев у него горели и так распухли, что щеточкой для ногтей к ним нельзя было притронуться. Когда, обнаженный по пояс, он начал мыться, губка выпала у него из рук, и он простоял несколько секунд в оцепенении, дыша, как запаренная лошадь.
Задыхающийся, измученный, он все-таки подбежал, наконец, к столу, схватил сумку для книг и, собрав остатки душевных сил, принялся отбирать нужные на сегодня учебники. Он останавливался, смотрел в пространство, боязливо бормотал: «Закон божий, латынь, химия», и запихивал в сумку потрепанные, вымазанные чернилами книги в картонных переплетах…
Маленький Иоганн очень вытянулся в последнее время. Ему шел уже шестнадцатый год, и носил он теперь не матросскую курточку, а светло-коричневый костюм и синий галстук в белую крапинку. По его жилету вилась тонкая золотая цепочка, вместе с часами доставшаяся ему от прадеда, а на безымянном пальце несколько широковатой, но изящной руки красовался фамильный перстень с изумрудной печаткой, тоже перешедший к нему… Он надел плотную шерстяную куртку, нахлобучил шляпу, схватил сумку с книгами, потушил свечу и ринулся вниз по лестнице, мимо чучела медведя, в столовую.
Мамзель Клементина, новая домоправительница его матери, сухопарая девица с завитками на лбу, остроносая и близорукая, была уже там и хлопотала у стола.
— Который час? — сквозь зубы спросил Ганно, хотя это было ему отлично известно.
— Без четверти восемь, — отвечала она, указывая худой, красной и явно подагрической рукой на циферблат стенных часов. — Вам надо поторапливаться, Ганно. — С этими словами она придвинула к нему чашку дымящегося какао, хлебницу, солонку и рюмку для яйца.
Не отвечая ей, даже не садясь, в шляпе, с сумкой под мышкой, он начал глотать какао. От горячего мучительно заныл зуб, над которым на прошлой неделе трудился г-н Брехт. Ганно оставил чашку недопитой, отказался от яйца, скривив губы, буркнул что-то вроде «до свиданья» и выбежал на улицу.
Было уже без десяти восемь, когда он, оставив позади маленькую красную виллу с палисадником, свернул в заснеженную аллею… Остается десять минут, девять, уже только восемь! А путь не близкий, и туман такой, что и не поймешь, где находишься! Он вдохнул во всю мочь своей узкой груди этот плотный, холодный туман и тут же выдохнул его, потрогал языком зуб, все еще нывший от какао, и постарался сообщить небывалую прыть своим ногам. Он обливался потом и в то же время всем телом дрожал от холода. В боку у него закололо. Скудный завтрак взбунтовался в желудке от такой утренней пробежки, к горлу подступала тошнота, а сердце, которое сейчас казалось ему каким-то посторонним предметом, трепетало и билось так, что дыханье перехватывало.
Городские ворота! Еще только Городские ворота, а уже без четырех минут восемь! В холодном поту, с болью в сердце, стараясь превозмочь тошноту, он мчался, озираясь по сторонам: не видно ли других школьников? Нет, нет, никого не видно! Все уже на месте, а тут как раз часы начали бить восемь. Звон доносился сквозь туман со всех башен, а часы на Мариенкирхе торжественно отмечали этот миг, играя «Творцу благодаренье…». Играли они омерзительно фальшиво, что, несмотря на свое отчаяние, все-таки заметил Ганно, не соблюдали ритма и были из рук вон плохо настроены. Но это все пустяки! Не пустяк то, что он опоздал, а в этом уже нет сомнения. Школьные часы немножко отстают, но все-таки он опоздал. Он пристально смотрел на встречавшихся ему прохожих. Они шли в свои конторы и департаменты, не слишком торопясь, — ничто им не угрожало. Некоторые отвечали на его жалобный, завистливый взгляд, в свою очередь окидывая взглядом его растерзанную фигурку, и улыбались. Эти улыбки приводили его в неистовство. Что они думают, эти спокойные счастливцы? Каким представляется им его положение? Ему хотелось крикнуть: «Ваши улыбки, господа, вызваны вашей душевной грубостью. Вы не можете понять, что я охотнее упал бы мертвым перед запертыми воротами школы…»
Резкий и долгий звонок к утренней молитве донесся до слуха Ганно, когда он был еще в добрых двадцати шагах от длинной кирпичной стены с коваными чугунными воротами, отгораживавшей передний двор школы от улицы. Уже окончательно выбившись из сил, он машинально выбрасывал вперед туловище, рассчитывая, что ноги, пусть спотыкающиеся и волочащиеся, кое-как поддержат его тело. Он достиг ворот, когда звонок только что смолк.
Господин Шлемиль, смотритель, коренастый мужчина с жесткой бородой и лицом рабочего, как раз собирался запереть их.
— Ладно уж! — сказал он и пропустил ученика Будденброка во двор.
Не исключено… не исключено, что он спасен! Остается только незаметно проскользнуть в класс, забиться там в уголок и дождаться конца молитвы, читаемой в гимнастическом зале. Притворяясь спокойным и беззаботным, кашляя и задыхаясь, весь в холодном поту, он протащился по вымощенному красным железняком двору и через нарядную дверь с цветными стеклами вошел внутрь здания.
Здесь все было ново, опрятно и красиво. Отдавая должное духу времени, дряхлые серые стены старой монастырской школы, где изучали науки отцы нынешних учеников, сровняли с землей и на их месте воздвигли новую, светлую и роскошную школу. Правда, стиль старого ансамбля был сохранен: над коридорами и крытыми галереями высились готические своды, но отопление, освещение, размеры залитых светом классов, уютные учительские комнаты, оборудование химического, физического и чертежного кабинетов — все это было устроено применительно к новейшим представлениям о комфорте.
Вконец изнемогший, Ганно Будденброк, озираясь, крался вдоль стены. Нет, слава тебе господи, никто его не заметил! Из дальних коридоров до него доносился гомон толпы, учеников и учителей, стекавшихся в гимнастический зал, чтобы перед новой трудовой неделей укрепить себя молитвой. Зато здесь, в коридоре, было тихо и безлюдно. На покрытой линолеумом лестнице тоже не было ни души. Затаив дыханье и напряженно прислушиваясь, Ганно на цыпочках прокрался наверх. Его класс — пятый класс реального училища — находился во втором этаже, прямо напротив лестницы; классная дверь стояла открытой. Дойдя до верхней ступеньки, он пригнулся, внимательно оглядел длинный коридор, по обе стороны которого шли двери с прибитыми к ним фарфоровыми дощечками, сделал три бесшумных быстрых шага и вошел в класс.
Там было пусто. Шторы на трех широких окнах еще не были подняты. Газовые лампы тихонько шипели под потолком, зеленые абажуры отбрасывали мягкий свет на три ряда двухместных парт из светлого дерева, напротив которых поучительно и строго высилась кафедра; за ней чернела классная доска. Стены, до половины обшитые светлой деревянной панелью и наверху побеленные, были украшены двумя географическими картами. На подставке возле кафедры стояла вторая доска.
Ганно прошел на свое место, находившееся примерно посредине классной комнаты, сунул книги в ящик, сел, положил обе руки на покатую доску парты и склонил голову. Несказанно радостное спокойствие охватило его. Эту голую, неуютную комнату он считал уродливой; он ее ненавидел, тысячи опасностей, грозивших ему сегодня, тяжелым камнем давили на его сердце и все-таки на первых порах он в безопасности, физическое напряжение кончилось, теперь будь что будет! Да и первый урок — закон божий, преподаваемый г-ном Баллерштедтом, не так-то страшен… По вибрации бумажной полоски наверху у круглой отдушины видно было, что в комнату струится теплый воздух, газовые лампы тоже изрядно нагревали помещение. Ах, сейчас можно потянуться и расправить закоченевшие члены! Волна приятного нездорового жара прилила к его голове, гулом отдалась в ушах, затуманила глаза.
Внезапно он услышал позади себя шорох, заставивший его вздрогнуть и быстро обернуться. Из-под последней скамейки показалась голова Кая графа Мельна. Он вылез оттуда, этот юный аристократ, встал на ноги, слегка похлопал рукой об руку, чтобы стряхнуть пыль, и с сияющим лицом приблизился к Ганно Будденброку.
— А, это ты, Ганно! — воскликнул он. — А я забрался туда, потому что принял тебя за одного из наших почтенных педагогов.
Голос его ломался, как у всех мальчиков в переходном возрасте; для Ганно эта пора еще не наступила. Ростом Кай был теперь не ниже Ганно, но в остальном ничуть не переменился. Он по-прежнему носил костюм неопределенного цвета, на котором кое-где недоставало пуговиц, а штаны были сзади сплошь в заплатах. Руки Кая, и сейчас не очень-то чистые, отличались необыкновенно благородной формой — длинные точеные пальцы с овальными ногтями. Рыжеватые волосы, посредине небрежно разделенные пробором, как и раньше, космами спадали на алебастрово-белый, безупречно красивый лоб, под которым сверкали голубые глаза, глубокие и в то же время пронзительные. Разница между его крайне неряшливым туалетом и благородной тонкостью лица с чуть горбатым носом и слегка вздернутой верхней губой теперь бросалась в глаза еще сильнее.