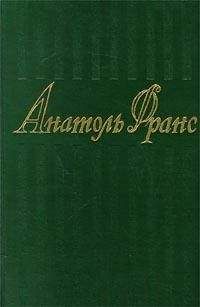Брат Марбод тоже был одним из самых нежных детей Марии.
Он без устали высекал на камне ее изображения, поэтому борода, брови и волосы у него были белы от пыли, а воспаленные глаза постоянно слезились. Уже достигнув почтенного возраста, он все еще был полон сил и бодрости, — видимо, царица небесная покоила старость своего чада. Марбод изображал ее сидящей на престоле, вокруг ее чела сиял расшитый жемчугом венчик. Марбод заботливо прикрывал складками платья ноги той, о которой пророк сказал: «Словно запертый вертоград, возлюбленная моя».
Иногда он придавал ей облик прелестного ребенка; казалось, она говорила: «Господи, воистину ты бог мой!»
Dixi do ventre matris meae: Deus meus es tu.[280]
(Псалом XXI, 11).
Были в монастыре и поэты, которые сочиняли на латинском языке изречения и гимны во славу присноблаженной девы Марии, а некий пикардиец перекладывал рассказы о чудесах богородицы на язык простонародья и воспевал их в стихах.
III
Наблюдая подобное соревнование в восхвалении пресвятой Девы и такое множество славных деяний, Барнабе ужасался своему невежеству и простоте.
— Увы! — говорил он сам с собой, гуляя в небольшом, лишенном тени монастырском садике. — Как я несчастен! Я не могу подобно братьям достойно прославить пресвятую богородицу, а между тем я люблю ее всем сердцем. Увы! Увы! Я человек простой, неискушенный, нет у меня для служения тебе, владычица, ни назидательных проповедей, ни трактатов, составленных по всем правилам, ни красивых картин, ни искусно высеченных статуй, ни разделенных на стопы складных стихов! Увы, нет у меня ничего!
Так он стенал и печалился. Однажды вечером монахи гуляли и беседовали меж собой, и тут он услышал о некоем иноке, который знал лишь одну молитву: «Богородица, дево, радуйся!» Все презирали его за невежество. Но после смерти инока из уст его выросло пять роз по числу букв, составляющих имя Марии, и таким образом была возвещена святость усопшего.
Выслушав этот рассказ, Барнабе еще раз подивился доброте пречистой Девы. Но блаженная кончина инока не утешила его, ибо сердце Барнабе было преисполнено рвения, и он жаждал потрудиться во славу царицы небесной.
Барнабе все искал для этого возможность, но не находил, и день ото дня все более и более сокрушался, как вдруг однажды утром он пробудился с радостным чувством, поспешил в часовню и оставался там в одиночестве долее часа. После обеда он опять пошел туда.
С тех пор он ежедневно отправлялся в часовню, когда там никого не было, и пребывал в ней большую часть времени, которое другие монахи посвящали вольным искусствам и ремеслам. Больше он уже не грустил и не сетовал.
Столь странное поведение возбудило любопытство монахов.
Братия недоумевала, почему Барнабе так часто уединяется.
Настоятель, чей долг состоит в том, чтобы все знать о своих монахах, решил последить за Барнабе во время его отлучек. И вот однажды, когда тот заперся по своему обыкновению в часовне, настоятель с двумя старцами направился туда и стал смотреть в дверную щель, что происходит внутри.
У алтаря святой девы Барнабе, держась на руках, вниз головой, подняв ноги кверху, жонглировал шестью медными шарами и двенадцатью ножами. В честь божьей матери он проделывал фокусы, за которые его когда-то особенно хвалили. Не поняв, что этот бесхитростный человек отдает пресвятой Деве все свое искусство и умение, старцы сочли это кощунством.
Настоятель знал, что Барнабе чист душою, но он решил, что у бывшего жонглера помутился разум. Все трое хотели было вывести его из часовни, как вдруг увидели, что пресвятая Дева сошла с амвона и вытирает полою своей голубой одежды пот, струящийся со лба жонглера.
Тогда, распростершись на каменных плитах, настоятель возгласил:
— Блаженны чистые сердцем, ибо они бога узрят!
— Аминь! — целуя землю, ответили старцы.
Господину Жану-Франсуа Бладэ из Ажана, «благочестивому летописцу», который собрал народные сказания Гаскони.
Вот что в один прекрасный летний вечер поведал мне ризничий церкви св. Евлалии в Невиль-д'Омоне, осушая в виноградной беседке «Белого коня» бутылку старого вина за здравие усопшего, которого он утром, накрыв парчой, усеянной серебряными блестками, предал с подобающими почестями земле.
— Мой бедный отец, ныне уже покойный, — начал ризничий, — при жизни был могильщиком. Человек он был приятный — по всей вероятности, благодаря своему ремеслу: известно, что люди, работающие на кладбищах, отличаются веселостью нрава. Смерть их не пугает, они никогда о ней не думают. Я сам, сударь, иду ночью по кладбищу так же спокойно, как в беседку «Белого коня». А если мне случается встретить мертвеца, меня это нимало не волнует; я так полагаю: он идет по своим делам, а я — по своим. Привычки и повадки покойников мне хорошо известны. Я знаю про них такое, чего не знают и сами священники. И если б я рассказал вам все, что видел, вы бы диву дались. Но только не обо всем, что тебе известно, следует говорить. Отец мой любил вспоминать разные истории, но не открывал и двадцатой доля того, что знал. Зато он частенько повторял одно и то же и на моей памяти десятки раз пересказывал случай с Катриной Фонтен.
Катрина Фонтен была старая дева. Отец мой видел ее, когда был еще мальчиком. Я уверен, что в нашей округе кое-кто из стариков о ней слышал. Катрина Фонтен была из бедной семьи, но ее знали все, и молва о ней шла добрая. Жила Катрина на углу улицы Монахинь, в башенке, которую вы можете видеть и сейчас: она примыкает к старой, наполовину разрушенной гостинице, окна которой выходят в сад Урсулинок. На стенах этой башенки можно различить полустершиеся изображения и надписи. Покойный настоятель церкви святой Евлалии, господин Левассер, уверял, будто там написано по-латыни: Любовь сильнее смерти. «Разумеется, — добавлял он, — речь идет о любви божественной».
Катрина Фонтен жила одна в своей каморке. Она была кружевница. Вы знаете, что наши кружева некогда славились. Ни родных, ни друзей у нее не было. Говорили, будто восемнадцати лет она полюбила молодого кавалера д'Омон-Клери и была с ним тайно обручена. Но люди добродетельные не хотели этому верить и утверждали, что все это — сказка, которую придумали, потому что Катрина Фонтен походила скорее на даму, чем на работницу, потому что лицо ее, обрамленное седыми волосами, еще хранило следы редкой красоты, потому что у нее был грустный вид и потому что она всегда носила кольцо, на котором золотых дел мастер изобразил две руки, соединенные в крепком пожатии, — в старину такими кольцами обычно обменивались при помолвке. Сейчас вы узнаете, как обстояло дело.
Катрина Фонтен вела благочестивый образ жизни. Она часто посещала храм; каждое утро, в шесть часов, в любую погоду она ходила к обедне в церковь святой Евлалии.
Однажды, декабрьской ночью, когда она спала в своей комнатушке, ее разбудил звон колоколов; не сомневаясь, что звонят к ранней обедне, набожная девица оделась и вышла на улицу; ночь была так темна, что невозможно было различить даже соседние здания; на черном куполе неба не сверкала ни одна звездочка. Гробовая тишина царила среди этого мрака, не слышно было даже собачьего лая, и человек чувствовал себя отчужденным от всего живого. Но Катрине Фонтен был знаком каждый камень, на который она ставила ногу, — она могла бы дойти до церкви с закрытыми глазами. И она без труда достигла перекрестка улицы Монахинь и Церковной улицы, где возвышается деревянное здание, увенчанное древом Иессея, вырезанным на толстой балке. Поравнявшись с церковью, она увидела, что двери отворены и изнутри льется яркий свет восковых свечей. Пройдя паперть, она очутилась в тесной толпе, наполнявшей храм. Но она никого не узнавала; она с удивлением заметила, что все эти люди одеты в бархат и парчу, шляпы их украшены перьями, на боку у них, по старинной моде, привешены шпаги. Здесь было немало знатных господ, сжимавших в руках высокие трости с золотыми набалдашниками, и важных дам в кружевных чепцах, приколотых гребнем в виде диадемы. Кавалеры ордена святого Людовика держали под руку этих дам, прикрывавших веерами свои накрашенные лица, так что можно было различить лишь напудренный висок или мушку в углу глаза. Все усаживались в свои кресла без малейшего шума, а пока они шли, не слышно было ни стука шагов по плитам, ни шелеста одежды. Боковые места заполняло множество молодых ремесленников в коричневых куртках, канифасовых панталонах и синих чулках; они обнимали за талию юных девушек — очень хорошеньких, румяных, со скромно опущенными глазами. Возле кропильниц крестьянки в красных юбках и зашнурованных корсажах сидели прямо на полу в спокойной позе домашних животных, а молодые крестьяне, стоявшие позади них, таращили глаза на окружающих и вертели в руках шляпы. И на всех этих задумчивых лицах, казалось, запечатлелось одно и то же выражение — нежное и грустное. Преклонив колена на своем обычном месте, Катрина Фонтен увидела, что священник в сопровождении двух прислужников направляется к алтарю. Но она не узнала ни священника, ни причетников. Служба началась. То была служба безмолвная: не слышно было ни слов, слетавших с губ, ни позвякивания колокольчика, который беззвучно раскачивался. Катрина Фонтен почувствовала, что на нее пристально смотрит ее таинственный сосед; взглянув на него искоса, она узнала молодого кавалера д'Омон-Клери, который некогда любил ее и скончался сорок пять лет назад. Она догадалась, что это он, по маленькому шраму над левым ухом, а главное, по тени, которую его длинные черные ресницы отбрасывали на щеки. Она узнала красный, обшитый золотыми галунами охотничий камзол, что был на нем в тот день, когда, встретив ее в лесу Сен-Леонар, он попросил напиться и сорвал с ее губ поцелуй. Он сохранил всю свежесть молодости и здоровый, бодрый вид. Его улыбка все так же приоткрывала острые, как у волчонка, зубы. Катрина шепотом сказала ему: