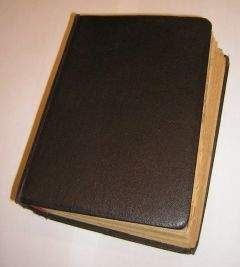Когда генерала Финка назначили комендантом крепости Перемышль, ему уже не так часто представлялась возможность для подобных цирковых представлений, и он с большой радостью ухватился за дело Швейка.
Теперь Швейк стоял перед этим тигром, который, сидя в центре длинного стола, курил сигарету за сигаретой и приказывал переводить ответы Швейка, после чего одобрительно кивал головой.
Майор внес предложение послать телеграфный запрос в бригаду для выяснения, где в настоящее время находится одиннадцатая маршевая рота Девяносто первого полка, к которой, согласно показаниям обвиняемого, он принадлежит.
Генерал высказался против и заявил, что этим задержится вынесение приговора, что противоречит смыслу данного мероприятия. Сейчас налицо полное признание обвиняемого в том, что он переоделся в русскую форму, потом имеется одно важное свидетельское показание, согласно которому обвиняемый признался, что был в Киеве. Он, генерал, предлагает немедленно удалиться на совещание, вынести приговор и немедленно привести его в исполнение.
Майор все же настаивал, что необходимо установить личность обвиняемого, так как это — дело исключительной политической важности. Установив личность этого солдата, можно будет добраться и до связей обвиняемого с его бывшими товарищами по той воинской части, к которой он принадлежал.
Майор был романтиком-мечтателем. Он говорил, что нужно найти какие-то нити, что недостаточно приговорить одного человека. Приговор является только результатом определенного следствия, которое заключает в себе нити, каковые нити… Он окончательно запутался в своих нитях, но все его поняли и одобрительно закивали головой, даже сам генерал, которому нити очень понравились, потому что он представил, как на Майоровых нитях висят новые полевые суды. Поэтому он уже не протестовал против того, чтобы справиться в бригаде и точно установить, действительно ли Швейк принадлежит к Девяносто первому полку и когда, во время каких операций одиннадцатой маршевой роты, он перешел к русским.
Швейк во время дебатов находился в коридоре, под охраной двух штыков. Потом его опять ввели в зал суда, поставили перед лицом судей и еще раз спросили, какого он полка. Потом Швейка перевели в гарнизонную тюрьму.
Вернувшись после неудавшегося полевого суда домой, генерал Финк лег на диван и стал обдумывать, как бы ускорить эту процедуру.
Он был твердо уверен, что ответ они получат скоро, но все же это уже не та быстрота, какой отличались его суды, так как после этого последует духовное напутствие приговоренного, что задержит приведение приговора в исполнение на лишних два часа.
— А, все равно, — решил генерал Финк. — Мы можем предоставить ему духовное напутствие еще перед вынесением приговора, до получения сведений из бригады. Все равно ему висеть.
Генерал Финк приказал позвать к себе фельдкурата Мартинеца. Это был несчастный учитель закона божьего, капеллан, откуда-то из Моравии. Раньше он был под началом такого безнравственного варвара, что предпочел пойти в армию. Новый фельдкурат был по-настоящему религиозный человек, он с горечью в сердце вспоминал о своем фараре, который медленно, но верно шел навстречу погибели. Он вспоминал, как его фарар до положения риз надирался сливовицей и однажды ночью во что бы то ни стало хотел втолкнуть ему в постель бродячую цыганку, которую подобрал где-то за селом, когда сильно навеселе возвращался с винокуренного завода.
Фельдкурат Мартинец надеялся, что, напутствуя раненых и умирающих на поле битвы, он искупит грехи своего распутного фарара, который, придя домой поздно ночью, неоднократно будил его, приговаривая при этом:
— Еничек, Еничек! Толстая девка — жизнь моя!
Надежды его не сбылись. Его перебрасывали из гарнизона в гарнизон, где он всего-навсего раз в две недели должен был произносить проповедь солдатам гарнизона и бороться с искушениями Офицерского собрания, а там велись такие разговоры, что в сравнении с ними «толстые девки» фарара были невинной молитвой к ангелу-хранителю.
Обычно его вызывали к генералу Финку во время крупных операций на фронте, когда нужно было торжественно отпраздновать очередную победу австрийской армии. Генерал Финк с таким же удовольствием организовывал торжественные полевые обедни, с каким устраивал полевые суды.
Бестия Финк был таким ярым патриотом Австрии, что не молился о победе германского или турецкого оружия. Когда германцы одерживали победу над французами или англичанами, у алтаря царило молчание.
Незначительную удачную схватку австрийского разведочного патруля с русским аванпостом штаб раздувал, словно огромный мыльный пузырь, до поражения целого корпуса русских, и это служило генералу Финку предлогом для торжественных богослужений. У несчастного фельдкурата Мартинеца создавалось такое впечатление, что генерал-комендант Финк является одновременно главою католической церкви в Перемышле.
Генерал Финк сам распоряжался церемониалом обедни, высказывая всякий раз пожелание, чтобы такие богослужения совершались по образцу богослужений в праздник тела господня — с октавой.506
Кроме того, генерал Финк имел обыкновение по возношении святых даров подскакать галопом на коне к алтарю и троекратно возгласить: «Ура! ура! ура!»
Фельдкурат Мартинец, душа набожная и праведная, один из немногих, кто еще верил в бога, не любил визитов к генералу Финку.
Генерал крепости Финк давал фельдкурату необходимые инструкции, а потом приказывал налить ему чего-нибудь покрепче и рассказывал рабу божьему Мартинецу новейшие анекдоты из глупейших сборничков, издававшихся специально для армии журналом «Lustige Blätter».507
Генерал собрал целую библиотеку книжонок с глупыми названиями, вроде «Юмор для зрения и слуха в солдатском ранце», «Гинденбурговы анекдоты», «Гинденбург в зеркале юмора», «Второй ранец юмора, наполненный Феликсом Шлемпером», «Из нашей гуляшевой пушки», «Сочные гранатные осколки из окопов», или такая чепуха, как «Под двуглавым орлом», «Венский шницель из императорской королевской полевой кухни разогрел Артур Локеш». Иногда он пел веселые солдатские песни из сборника «Wir müssen siegen»,508 причем неустанно подливал чего-нибудь покрепче, заставляя фельдкурата пить и горланить вместе с ним. Потом заводил похабные разговоры, во время которых фельдкурат Мартинец с тоской в сердце вспоминал своего фарара, по части сальностей ни в чем не уступавшего генералу Финку.
Фельдкурат Мартинец с ужасом замечал, что чем чаще он ходит в гости к генералу Финку, тем ниже падает нравственно.
Несчастному начали нравиться ликеры, которые он распивал у генерала. Постепенно он вошел во вкус генеральских разговоров. Воображению его рисовались безнравственные картины, и ради контушовки, рябиновки и старого вина в покрытых паутиной бутылках, которыми его поил генерал Финк, фельдкурат забывал о боге. Теперь между строчек требника у него танцевали «девочки» из генеральских анекдотов. Отвращение к посещениям генерала ослабевало.
Генерал полюбил фельдкурата Мартинеца, который сначала явился к нему святым Игнатием Лойолой, а затем приспособился к генеральскому окружению.
Как-то раз генерал позвал к себе двух сестер милосердия из полевого госпиталя. Собственно говоря, в госпитале они не служили, а только были к нему приписаны, чтобы получать жалование, и подрабатывали, как это часто бывало в те тяжелые времена, проституцией. Генерал велел позвать фельдкурата Мартинеца, который уже так запутался в тенетах дьявола, что после получасового флирта переменил обеих дам, причем вошел в такой раж, что обслюнявил на диване всю подушку. Потом он долгое время упрекал себя за такое развратное поведение. Грех свой он не искупил даже тем, что, возвращаясь ночью домой, упал на колени в парке по ошибке перед статуей архитектора и городского головы — мецената пана Грабовского, у которого в восьмидесятых годах были большие заслуги перед Перемышлем.
Топот военного патруля смешался с его пламенной молитвой:
— «Не осуди раба своего. Несть человека безгрешного перед судом твоим, не разрешишь ли от всех грехов его. Да не будет суров твой приговор. Помощи у тебя молю и в руки твои, господи, предаю дух мой».
С той поры, когда его звали к генералу Финку, он несколько раз пытался отречься от всяческих земных наслаждений, ссылаясь на больной желудок. Он верил, что это ложь во спасение и что она избавит его душу от мук ада. Но вместе с тем он считал, что нализаться его обязывает воинская дисциплина: если генерал предлагает фельдкурату: «Налижись, товарищ!» — сделать это нужно хотя бы из одного только уважения к начальнику.
Уклониться ему, впрочем, не всегда удавалось, особенно после торжественных полевых богослужений, когда генерал устраивал еще более торжественные пиры за счет гарнизонной кассы. Потом в финансовой части все расходы смешивали вместе, чтобы заодно и себе урвать кое-что. После таких торжеств фельдкурату казалось, что он морально погребен перед лицом господним, и это приводило его в трепет.