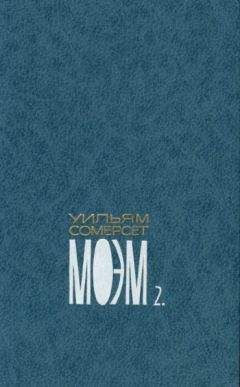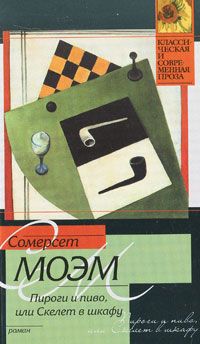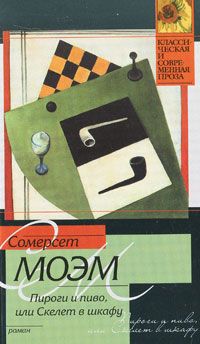— Я не уверен, что он захочет меня видеть. Я напомню ему то, о чем он старается забыть. Но все равно я пойду. А можно посмотреть его работы?
— У него — нет. Он тебе ничего не покажет. Но я знаю одного торговца, у которого есть две или три картины Стрикленда. Только ты не ходи без меня: ты ничего не поймешь. Я их сам тебе покажу.
— Дирк, ты меня выводишь из терпения! — воскликнула миссис Струве.— Как ты можешь превозносить его картины после того, что было? — Она обернулась ко мне: — Вы знаете, когда какие-то приезжие из Голландии пришли к нам покупать картины, то Дирк стал их уговаривать лучше купить картины Стрикленда! И настоял, чтобы их принесли сюда.
— А что вы думаете об этих полотнах? — с улыбкой спросил я.
— Они ужасны.
— Ах, радость моя, ты ничего не понимаешь.
— А почему же твои голландцы так на тебя разозлились? Они решили, что ты вздумал подшутить над ними.
Дирк Струве снял очки и тщательно протер их. От волнения его лицо сделалось еще краснее.
— Неужели, по-твоему, красота, самое драгоценное, что есть в мире, валяется, как камень на берегу, который может поднять любой прохожий? Красота — это то удивительное и недоступное, что художник в тяжких душевных муках творит из хаоса мироздания. И когда она уже создана, не всякому дано ее узнать. Чтобы постичь красоту, надо вжиться в дерзание художника. Красота — мелодия, которую он поет нам, и для того, чтобы она отозвалась в нашем сердце, нужны знание, восприимчивость и фантазия.
— Почему я всегда считала твои картины прекрасными, Дирк? Они восхитили меня, едва только я увидела их.
У Дирка чуть-чуть задрожали губы.
— Ложись спать, родная моя, а я немножко провожу нашего друга и сейчас же вернусь домой.
Дирк Струве пообещал зайти за мной на следующий день вечером, чтобы отправиться в кафе, где бывал Стрикленд. К вящему моему удивлению, это оказалось то самое кафе, в котором мы пили абсент со Стриклендом, когда я приезжал в Париж для разговора с ним. То, что он по-прежнему бывал здесь, свидетельствовало об известной верности привычке, и это показалось мне характерным.
— Вот он,— сказал Струве, едва только мы вошли в кафе.
Несмотря на октябрь месяц, вечер был теплый, и за столиками, расставленными прямо на мостовой, сидело множество народу. Я впился взглядом в эту толпу, но не нашел Стрикленда.
— Смотри же, вон там в углу, за шахматами.
Я заметил человека, склонившегося над шахматной доской, но различил только широкополую шляпу и рыжую бороду. С трудом пробравшись между столиками, мы подошли к нему.
— Стрикленд!
Он поднял глаза.
— Хэлло, толстяк! Что надо?
— Я привел старого друга, он хочет повидать вас.
Стрикленд посмотрел мне в лицо, но, видимо, не узнал меня и снова стал обдумывать ход.
— Садитесь и не шумите,— буркнул он.
Он передвинул пешку и тотчас же весь погрузился в игру. Бедняга Струве бросил на меня огорченный взгляд, но я не позволил таким пустякам смутить себя. Я велел подать вина и стал спокойно дожидаться, пока Стрикленд кончит. Я был рад случаю исподволь понаблюдать за ним. Нет, это не тот человек, которого я знал. Прежде всего, косматая и нечесаная рыжая борода закрывала бо́льшую часть лица, и волосы на голове тоже были длинные; но более всего непохожим на прежнего Стрикленда его делала страшная худоба. Большой нос еще резче выдался вперед, щеки ввалились, глаза стали огромными. Запавшие виски казались ямами. Тело напоминало скелет. Сюртук, тот же, что и пять лет назад, рваный, в пятнах, донельзя изношенный, болтался на нем, как с чужого плеча. Я долго смотрел на его руки с отросшими грязными ногтями; кожа да кости, но большие и сильные, а я ведь совсем забыл, что они так красивы! Я смотрел на него, погруженного в игру, и думал о том, какая сила исходит от этого изголодавшегося человека. Я только не мог понять, почему теперь она больше бросалась в глаза.
Сделав ход, Стрикленд откинулся на стуле и вперил в пространство рассеянный взгляд. Противник — дородный бородатый француз — долго обдумывал положение, затем вдруг разразился беззлобной бранью, смахнул фигуры с доски и швырнул их обратно в коробку. Изругав Стрикленда и, видимо, облегчив свою душу, он позвал официанта, заплатил за абсент и ушел. Струве придвинул свой стул поближе к столику.
— Ну, теперь мы можем и поговорить,— сказал он.
Глаза Стрикленда были устремлены на него с каким-то злорадством. Я ясно чувствовал, что он ищет повода поиздеваться, ничего не находит и потому угрюмо молчит.
— Я привел старого друга повидаться с вами,— с сияющим лицом повторил Струве.
Стрикленд, наверно, с минуту задумчиво смотрел на меня. Я молчал.
— В жизни его не видел,— объявил он наконец.
Не знаю, зачем он это сказал, от меня все равно не укрылся огонек в его глазах — он, несомненно, узнал меня. Но теперь я не так легко конфузился, как несколько лет назад.
— Я на днях говорил с вашей женой и уверен, что вам будет интересно узнать о ней столь свежие новости.
В ответ послышался короткий смешок. Глаза Стрикленда блеснули.
— Мы тогда славно провели вечер,— сказал он.— Сколько лет назад это было?
— Пять.
Он спросил еще абсенту. Струве начал многословно объяснять, как мы с ним встретились и как в разговоре случайно выяснилось, что мы оба знаем Стрикленда. Не знаю, слушал ли его Стрикленд. Раза два он задумчиво взглянул на меня, но большей частью был погружен в собственные мысли, и, конечно, без болтовни Струве мне было бы нелегко поддерживать разговор. Минут через двадцать голландец поглядел на часы и объявил, что ему пора. Он спросил, пойду ли я с ним. Мне подумалось, что наедине я кое-что вытяну из Стрикленда, и я решил остаться.
После ухода толстяка я сказал:
— Дирк Струве считает вас великим художником.
— А почему, черт возьми, это должно интересовать меня?
— Вы позволите мне посмотреть ваши картины?
— Это еще зачем?
— Возможно, что мне захочется приобрести одну из них.
— Возможно, что мне не захочется ее продать.
— Надо думать, вы хорошо зарабатываете живописью? — с улыбкой спросил я.
Он фыркнул.
— Вы это заметили по моему виду?
— У вас вид вконец изголодавшегося человека.
— Так оно и есть.
— Тогда пойдемте обедать.
— Почему вы мне это предлагаете?
— Во всяком случае, не из жалости,— холодно отвечал я.— Ей-богу, мне наплевать, умрете вы с голоду или не умрете.
Глаза его снова зажглись.
— В таком случае пошли.— Он поднялся с места.— Неплохая штука — хороший обед.
Предоставив ему выбор ресторана, я по дороге купил газету. Когда мы заказали обед, я развернул ее, прислонил к бутылке «Сен-Гальмье» и углубился в чтение. Ели мы молча. Время от времени я чувствовал на себе взгляд Стрикленда, но сам не поднимал глаз. Мне хотелось во что бы то ни стало вызвать его на разговор.
— Есть что-нибудь интересное в газете? — спросил он под самый конец нашего молчаливого обеда.
В его тоне мне послышалось легкое раздражение.
— Я люблю читать фельетоны о театре,— отвечал я, складывая газету.
— Я с удовольствием пообедал,— заметил он.
— А не выпить ли нам здесь же кофе?
— Можно.
Мы взяли по сигаре. Я курил молча, но заметил, что в глазах его мелькал смех, когда он взглядывал на меня. Я терпеливо ждал.
— Что вы делали все эти годы? — спросил он наконец.
Что мог я рассказать о себе? Это была бы летопись тяжелого труда и малых дерзаний; попыток то в одном, то в другом направлении; постепенного познания книг и людей. Я со своей стороны остерегался расспрашивать Стрикленда о его делах и жизни, не выказывая ни малейшего интереса к его особе, и под конец был вознагражден. Он заговорил первый. Но, начисто лишенный дара красноречия, лишь отдельными вехами отметил пройденный путь, и мне пришлось заполнять пробелы с помощью собственного воображения. Это были танталовы муки — слушать, как скупыми намеками говорит о себе человек, так сильно меня интересовавший. Точно я читал неразборчивую, стертую рукопись. В общем, мне стало ясно, что жизнь его была непрестанной борьбой с разнообразнейшими трудностями. Но понял я и то, что многое предельно страшное для большинства людей его нисколько не страшило. Стрикленда резко отличало от его соплеменников полное пренебрежение к комфорту. Он с полнейшим равнодушием жил в убогой комнатке, у него не было потребности окружать себя красивыми вещами. Я убежден, что он даже не замечал, до какой степени грязны у него обои. Он не нуждался в креслах и предпочитал сидеть на кухонной табуретке. Он ел с жадностью, но что́ есть, ему было безразлично; пища была для него только средством заглушить сосущее чувство голода, а когда ее не находилось, ну что ж, он голодал. Я узнал, что в течение полугода его ежедневный рацион состоял из ломтя хлеба и бутылки молока. Чувственный по природе, он оставался равнодушен ко всему, что возбуждает чувственность. Нужда его не тяготила, и он, как это ни поразительно, всецело жил жизнью духа.