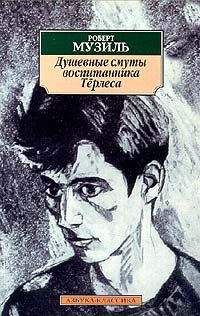17
Воздействие человека без свойств на человека со свойствами
Беседуя, Ульрих и Кларисса не замечали, что музыка позади них порой прекращалась. Тогда Вальтер подходил к окну. Он не мог видеть их, но чувствовал, что они находились у самой границы его поля зрения. Его мучила ревность. Низменный дурман тяжело-чувственной музыки влек его назад. Рояль за его спиной был открыт, как постель, разворошенная спящим, который не хочет просыпаться, потому что не хочет смотреть в лицо действительности. Зависть паралитика, чувствующего, как шагают здоровые, изводила его, а заставить себя присоединиться к ним он не мог, ибо его боль делала его беззащитным перед ними.
Когда Вальтер поднимался утром и спешил на службу, когда он весь день говорил с людьми, а потом ехал среди них домой, он чувствовал себя человеком выдающимся и призванным к чему-то особому. Он думал тогда, что видит все иначе; его могло взволновать то, мимо чего небрежно проходили другие, а где другие небрежно хватали ту или иную вещь, там даже движение собственной руки было полно для него духовных приключений или самовлюбленной расслабленности. Он был чувствителен, и чувство было у него всегда взбудоражено копанием в мыслях, их провалами, колышущимися долинами и горами; он никогда не бывал равнодушен, а во всем видел счастье или несчастье и благодаря этому всегда находил повод для усиленных размышлений. Такие люди необыкновенно притягательны для других, потому что этим другим передается нравственное волнение, в котором они непрестанно находятся; в их разговорах все принимает личное значение, и поскольку, общаясь с ними, можно все время заниматься самим собой, они доставляют удовольствие, которое вообще-то можно получить лишь за плату у какого-нибудь психоаналитика или специалиста по индивидуальной психологии, да еще с той разницей, что там чувствуешь себя больным, а Вальтер помогал людям казаться самим себе очень важными по причинам, дотоле ускользавшим от них. Этим свойством — распространять духовную самососредоточенность — он покорил и Клариссу и постепенно вытеснил всех соперников; поскольку все становилось у него этическим волнением, он мог убедительно говорить о безнравственности украшательства, о гигиене гладкой формы и о пивных парах вагнеровской музыки, как то соответствовало новому художественному вкусу, и приводил этим в ужас даже своего будущего тестя, чей мозг живописца был как распущенный павлиний хвост. Таким образом, не подлежало сомнению, что у Вальтера были успехи в прошлом.
Но как только он, полный впечатлений и планов небывалой еще, может быть, зрелости и новизны, прибывал домой, с ним происходила обескураживающая перемена. Ему достаточно было установить холст на мольберте или положить листок бумаги на стол — и уже возникало ощущение ужасной пропажи в его душе. Его голова оставалась ясной, и план в ней маячил как бы в очень прозрачном и чистом воздухе, план даже разъединялся, превращался в два плана или в большее число планов, которые могли оспаривать первенство друг у друга; не связь между головой и первыми, необходимыми для исполнения движениями словно бы отрезало. Вальтер не мог решиться шевельнуть и пальцем. Он просто не вставал с места, где ему случилось сесть, и мысли его соскальзывали с поставленной им перед собой задачи, как снег, что тает, едва упав. Он не знал, чем заполнялось время, но не успевал он оглянуться, как наступал вечер, и поскольку после нескольких таких случаев он уже приходил домой со страхом перед их повторением, целые вереницы недель стали скользить и проходили как сумбурный полусон. Замедленный безнадежностью во всех своих решениях и побуждениях, он страдал от горькой грусти, и его неспособность превратилась в боль, которая часто, как носовое кровотечение, возникала у него где-то во лбу, едва он решался за что-либо взяться. Вальтер был пуглив, и эти явления, которые он отмечал у себя, не только мешали ему работать, но и очень страшили его; они настолько, казалось, были независимы от его воли, что часто производили на него впечатление начинающейся умственной деградации.
Но хотя его состояние в течение последнего года все ухудшалось, он в то же самое время нашел удивительную поддержку в мысли, которой никогда прежде достаточно не ценил. Мысль эта состояла не в чем ином, как в том, что Европа, где он был вынужден жить, безнадежно выродилась. В эпохи, внешне благополучные, но внутренне переживающие тот спад, который происходит, вероятно, во всяком деле, а потому и в духовном развитии, если на него не направляют особых усилий и не дают ему новых идей, — в такие эпохи прежде всего следовало бы, собственно, задаться вопросом, какие тут можно принять меры противодействия; но неразбериха умного, глупого, подлого, прекрасного как раз в такие времена настолько запутана и сложна, что многим людям явно проще верить в какую-то тайну, отчего они и провозглашают неудержимый упадок чего-то, что не поддается точному определению и обладает торжественной расплывчатостью. Да и совершенно, в сущности, безразлично, что это — раса, сырая растительная пища или душа: как при всяком здоровом пессимизме, тут важно только найти что-то неизбежное, за что можно ухватиться. И хотя Вальтер в лучшие годы способен был смеяться над такими теориями, он тоже, начав прибегать к ним, быстро увидел великие их преимущества. Если дотоле был не способен к работе и плохо чувствовал себя он, то теперь неспособно к ней было время, а он был здоров. Его ни к чему не приведшая жизнь нашла вдруг потрясающее объяснение, оправдание в эпохальном масштабе, его достойное; и это принимало уже характер прямо-таки великой жертвы, если он брал в руку и опять клал на место карандаш или перо.
Тем не менее Вальтеру еще приходилось бороться с собой, и Кларисса мучила его. На разговоры о пороках времени она не шла, она верила в гений прямолинейно, Что это такое, она не знала, но все ее тело трепетало и напрягалось, когда заходила об этом речь; это либо чувствуешь, либо не чувствуешь — таково было единственное ее доказательство. Для Вальтера она всегда оставалась той маленькой, жестокой, пятнадцатилетней девочкой. Никогда она целиком не понимала его чувств, и ему никогда не удавалось подчинить ее себе. Но при всей своей холодности и суровости, сменявшихся у нее восторженностью и сочетавшихся с беспредметно-пламенной волей, она обладала таинственной способностью влиять на него так, словно через нее поступали толчки с какой-то стороны, которую нельзя было указать в трехмерном пространстве. Иногда от этого делалось жутковато. Особенно он чувствовал это, когда они играли вдвоем. Игра Клариссы была сурова и бесцветна, подчиняясь чуждому ему закону волнения; когда тела пылали так, что сквозь них светилась душа, он чувствовал это с пугающей силой. Что-то не поддающееся определению отрывалось тогда от нее и грозило улететь вместе с ее духом. Шло оно из какой-то тайной полости в ее естестве, которую нужно было в страхе держать закрытой; он не знал, по каким признакам он это чувствовал и что это было; но это мучило его невыразимым страхом и потребностью предпринять что-то решительное, чего он не мог сделать, ибо никто, кроме него, ничего такого не замечал.
Глядя в окно на возвращавшуюся Клариссу, он был почти уверен, что опять не удержится от искушения говорить об Ульрихе плохо. Ульрих вернулся некстати. Он причинял Клариссе вред. Он жестоко ухудшал в ней то, чего Вальтер не осмеливался бередить, каверну беды, все бедное, больное, зловеще-гениальное в Клариссе, тайное пустое пространство, где цепи были натянуты так, что могли в один прекрасный день и вовсе не выдержать. И вот она стояла перед ним с непокрытой головой, только что войдя, держа в руке летнюю шляпу, и он смотрел на нее. Глаза ее были насмешливы, ясны, нежны; может быть, немного слишком ясны. Иногда у него бывало такое чувство, что она просто обладает силой, отсутствующей у него. Жалом, которое никогда не даст ему покоя, была она для него уже в свои детские годы, и сам он, конечно, никогда не хотел, чтобы она была другой; в этом, может быть, и состояла тайна его жизни, непонятная тем двум.
«Глубоки наши муки! — подумал он. — Нечасто, наверно, два человека любят друг друга так глубоко, как должны любить мы». И без перехода заговорил:
— Не хочу знать, что рассказывал тебе Уло. Но могу сказать, что его сила, которой ты любуешься, не что иное, как пустота!
Кларисса посмотрела на рояль и улыбнулась; Вальтер непроизвольно уселся опять у открытого рояля. Он продолжал:
— Легко, должно быть, испытывать героические чувства, если от природы ты нечувствителен, и мыслить километрами, если понятия не имеешь, какие миры таит в себе любой миллиметр!
Они называли его иногда Уло, как в пору его юности, и он любил их поэтому так, как сохраняют улыбчивую почтительность к своей кормилице.