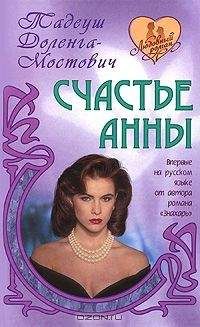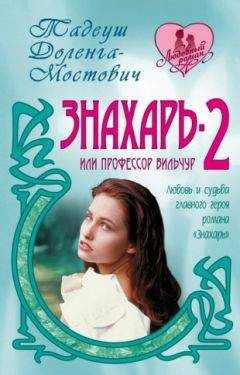Антоний Косиба не любил вранья. Однако на этот раз решил солгать, чтобы приблизиться к поставленной цели.
— Делал ли операции? — пожал плечами Антоний. — Много раз. И тебе сделаю, тогда ты выздоровеешь! Ты же неглупый и согласишься.
Дверь открылась, и маленькая Наталка позвала:
— Антоний, пойдем ужинать! А тебе, Василек, в постель принести?
— Я не буду есть, — нетерпеливо буркнул Василь, разозлившись, что прервали такой важный разговор. — Выйди отсюда, Наталка!
И снова начал выпытывать у Антония все об операции и отпустил его только после того, как в сенях заскрипел поторапливающий голос матери.
Спустя два дня старый Прокоп позвал Антония. Он сидел на скамейке и попыхивал трубкой.
— Что ты наговорил моему Васильку, Антоний? — обратился он к работнику. — О каком-то там лечении?
— Правду сказал.
— Какую правду?
— А что я могу его вылечить.
— Как это ты можешь?
— Нужно разрезать, кости наново сломать и опять сложить. Они неправильно составлены.
Старик сплюнул, погладил свою седую бороду и махнул рукой:
— Перестань. Сам доктор сказал, что тут уже ничто не поможет, а ты, темный, необразованный, сомневаешься?.. Правда, ты разбираешься во многом. Не отрицаю, и грех был бы… но с человеческим телом не так просто. Нужно знать, где какая косточка, где какая жилка, какая к какой подходит, какое имеет значение. Сам не раз разбирал кабана или теленка. Столько там разных таких жилок, что и не разберешься. А по существу что? Скотина. А у человека все деликатное. Нужно разбираться в этом. Это тебе не соломорезка, которую развинтишь, все винтики и другие части на земле разложишь, а потом опять сложишь, смотришь, и режет лучше, чем прежде… Уметь тут надо, школу закончить, науку пройти.
— Как хочешь, — пожал плечами Антоний. — Я что? Набиваюсь, что ли? Говорю, что смогу, потому как не раз вытаскивал людей из такой беды, значит, смогу. Слышал ты когда-нибудь, чтобы я слова на ветер бросал?
Старик молчал.
— Случалось ли, что я брался за какое-нибудь дело, а потом не справлялся, портил?
Мельник покачал головой.
— Твоя правда! Грех жаловаться! Умелый ты, и я не жалею, что оставил тебя. Но тут дело касается моего сына. Сам понимаешь, я думаю, последнего, который у меня остался.
— Так ты хочешь, чтобы он навсегда калекой остался? А со временем не лучше ему будет становиться, а все хуже. У него отломаны куски костей. Ты сам их рукой нащупаешь. Говоришь, что наука нужна. Так была же у тебя наука. Тот доктор из городка ученый. А что сделал?
— Если ученый не сумел, то неученому и браться нечего. Разве, — заколебался он, — разве в Вильно везти, в больницу. Но то ж такие огромные затраты, а еще неизвестно, помогут ли там…
— И тратиться не надо. Мне гроша не заплатишь. Я не настаиваю, Прокоп, слышишь, не настаиваю. От всего сердца, из благодарности вам всем хочу помочь. Если боишься, что Василь после операции может умереть или еще какая-нибудь болезнь с ним приключится, то помни две вещи. Во-первых, ты имеешь право убить меня. Я защищаться не буду. А захочешь, то до смерти останусь работать у тебя бесплатно. Что же делать! Жалко мне парня, а я знаю, что помогу ему. А во-вторых, Прокоп, ты знаешь, какие мысли приходят ему в голову?
— Какие ж это мысли?
— А чтобы лишить себя жизни.
— Тьфу, не произноси таких слов в злую минуту. — вздрогнул мельник.
— Я не произношу. Но он, Василек, все время над этим думает. Мне говорил и другим тоже. Спроси у Зони или Агаты.
— Во имя отца и сына!..
— А ты, Прокоп, не обращайся к Богу, — раздраженно добавил Антоний, — потому что все говорят, что твои несчастья с детьми — Божья кара за то, что ты обидел своего брата…
— Кто так говорил?! — вскипел старик.
— Кто?.. Кто?.. А все. Вся округа. Если хочешь знать, то и сын твой говорит то же самое. За что, говорит, я должен мучиться, за что калекой до конца жизни быть? За грех отца?..
Воцарилось молчание. Прокоп опустил голову и сидел, как окаменевший, только ветер развевал пряди его длинных седых волос и бороды.
— Смилуйся, Боже, смилуйся, Боже, — тихо шептал он.
Антонию вдруг стало нехорошо на душе. Зачем он бросил в лицо несчастному старику страшное обвинение? Ему захотелось смягчить ситуацию, и он заговорил снова:
— То, о чем говорят, вероятно, выдумка… Приговоров Божьих никто знать не может. А Василь еще молодой и глупый. Лично я в это не верю.
Старик не шелохнулся.
— Не верю, — продолжал Антоний, — и в доказательство тому вылечу твоего сына. Решайся, Прокоп, потому что я только добра тебе хочу, равно как и ты мне зла не желаешь, я знаю. Представь, что будет, если наперекор всем разговорам Василь поправится, начнет ходить, как все люди, возьмется за работу? Будет у тебя, кому мельницу оставить. На старости лет опору и опеку в родном сыне найдешь. Подумай, не закроет ли это рот сплетникам, когда они увидят здорового Василя?
Мельник тяжело поднялся с бревна и посмотрел на Антония. Глаза его беспокойно горели.
— Послушай, Антоний, а ты поклянешься, что хлопец не умрет?
— Поклянусь, — прозвучал уверенный ответ.
— Тогда пошли.
Не сказав больше ни слова, он пошел вперед. Заглянул в комнаты. Там никого не было. В углу перед иконой мерцал слабый огонек лампадки.
Прокоп снял икону с гвоздя, торжественно поднял ее над головой и сказал:
— Святой пречистой…
— Святой пречистой, — повторил Антоний.
— Христосу избавителю…
— Христосу избавителю…
— Клянусь.
— Клянусь, — повторил Антоний, и для подтверждения клятвы поцеловал икону, которую поднес ему Прокоп.
Все должно было произойти в абсолютной тайне. Прокоп Мельник не хотел разглашать эту затею, чтобы снова не ожили в округе разговоры о его брате и о Божьей каре, которая пала на его потомство. Несмотря на клятву Антония Косибы, несмотря на доверие к нему, Прокоп не исключал все-таки возможности смерти сына.
Поэтому даже своим близким не открыл всего до конца.
Весь следующий день, в соответствии с планом Антония, женщины убирали в пристройке. Там натопили печь, занесли ушат с водой, две самые большие кастрюли и постели Василя и Косибы.
Женщинам и второму работнику Прокоп сказал только следующее:
— Антоний знает способ лечения и будет там лечить Василька.
Тем временем Антоний выбрал себе из инструментов молоток, маленькую пилочку, вычистил ее дробленым кирпичом и доделал ручку, нашел долото и два ножа. Все это долго точил, но никто не видел, чем он занимался. Не видел никто и того, как он выстругал вогнутые дощечки.
Старый Прокоп с самого утра отправился в городок и, возвратившись, занес Антонию в пристройку какие-то пакеты. В них была вата и йод. Бинты Антоний приготовил сам из двух простынь.
Вечером Василя перенесли, и они провели ту ночь в пристройке уже вместе. В пристройке была большая комната с тремя окнами и темным альковом. Василю поставили кровать в комнате, а альков занял Антоний. Так же как и в доме, вдоль стен стояли лавки, а в углу большой стол.
Василь в ту ночь уснуть не мог: все расспрашивал Антония об операции.
— Спал бы уже, — одернул его, наконец, Антоний. — Что ты, как женщина, боишься боли?
— Я не боюсь боли. Что ты! Вот сам увидишь, я даже не застону. Я только прошу тебя, ты не обращай внимания, что мне больно. Я выдержу, только бы хорошо было.
— Будет хорошо.
На рассвете мельница заработала, как обычно, с той лишь разницей, что две молодые женщины помогали вместо Косибы.
— Что это ты, Прокоп, — посмеивались мужики, — с каких это пор мельницу у тебя бабы крутят?
Но Прокоп на шутки не отвечал, в голове у него роились другие мысли. Он выполнял свою работу, а в душе все время молился.
Тем временем солнце уже пробилось сквозь облака, висящие над горизонтом, и все залило своим теплым светом. В пристройке стало совсем светло.
Антоний хлопотал в пристройке с самого утра, ворча что-то себе под нос. Василь молча следил за каждым его движением. Этот бородатый великан казался ему странным, таинственным и опасным. В его поведении, поспешности и неожиданной задумчивости, в странной улыбке было что-то такое, что вызывало суеверный страх. Василь знал, что никто сейчас сюда не придет, и он теперь во власти Косибы. Знал он также и то, что никакие просьбы не помогут, что Антоний не отступит от своего плана. Ему оставалось, как обреченному, следить за непонятными движениями Антония, за тем, как обернул он себя простыней, как разложил на табурете свитки бинтов, как достал веревки…
Васильку подумалось, что так должен выглядеть палач, который готовится к казни, поэтому несказанно удивился, неожиданно услышав над собой теплый и сердечный голос, так отличающийся от обычного тона Антония.
Антоний, наклонившись над ним, говорил спокойно и ласково: