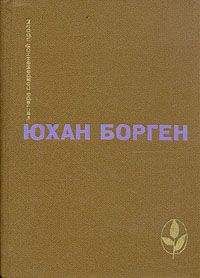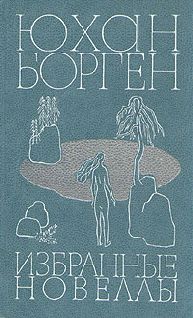У дяди Рене не подавали обильного угощения. Только чай с тостами в перерыве. До перерыва обычно слушали Баха, Брамса и прочих композиторов на «Б». Зато после наступали волнующие мгновения Дебюсси, Цезаря Франка или прозрачных, чуть однообразных сонат неизвестного автора, написанных, как знали все, самим дядей Рене. Но это была тайна, и горе тому, кто обмолвится об этом… На вечера приходили трое штатных музыкантов из оркестра Национального театра: альт, скрипка и виолончель. За рояль садился кто-нибудь из гостей. Дядя Рене – никогда. Он играл на скрипке или флейте. Маленький Лорд знал, что музыканты иногда посмеивались над дядей, хотя он играл очень хорошо. Ему казалось, что дядя и сам это знает. Но у дяди Рене было великолепное свойство – ни на что не обращать внимания. Он был такой, какой он есть.
Однажды на вечер к дяде Рене был приглашен поэт, и Маленький Лорд весь день ходил, робея от ожидания. Он знал взрослых, которые писали музыку, но стихи – никогда. В этом было что-то неестественное. Но когда поэт в перерыве начал читать стихи, оказалось, что это похоже на музыку. У поэта были широкие скулы и пронзительные голубые глаза, которые долго глядели на каждого. И вот когда он читал в перерыве «Гобелен», а потом о девушке по имени Эльвира, которая собирается на бал, Маленький Лорд подумал, что слова – это иногда еще больше, чем музыка, потому что они и музыка, и слова.
А иногда, наоборот, музыка как бы говорила словами; однажды играли сонату Шопена b-moll, и, когда дошли до «Траурного марша», мир разверзся.
В ту пору мать часто читала вслух то, что газеты писали о корабле под названием «Фолгефоннен», который потерпел крушение. И вот, сидя в темном уголке, Маленький Лорд слушал, как музыка рассказывает о волнах, которые захлестнули накренившуюся палубу и со скорбным всплеском поглотили людей. И, сидя в этом уголке, он вдруг понял, что ничто в мире, ничто происходящее на самом деле не может быть таким значительным, как его воплощение в музыке, ставшей словом.
Слова становились музыкой, музыка словами, но они становились еще и чем-то большим – становились всем. Под сводом, который возводили над ним слова и музыка, вмещалось все, и он чувствовал, что под этим сводом он один и никто не может до него добраться. Пусть придет, кто хочет, – сестры Воллквартс, полиция, старухи из Грюнерлокке, – никто из них не проникнет под волшебный свод; пришельцы только будут кружить по заколдованному кругу, повинуясь закону, который правит всем и в конечном итоге приводит все к счастливому концу…
– А вот молодой человек, который хочет сыграть нам Моцарта!
Он должен был играть с «оркестром». И у него впервые сладко заныло сердце, оттого что другие начали, а ему предстоит вступить и с этой минуты как бы перенять главенство у трех взрослых музыкантов, играющих за деньги. Он много раз предвкушал эту сцену, каждый раз замирая от смертельного страха и торжества в предчувствии этой минуты и последующих, когда он как бы одиноко возвысится над всеми, а остальные будут молча внимать ему или, наоборот, его сопровождать.
Но все вышло по-другому. Он мог воображать невесть что, только пока играли другие, тогда он мог улавливать в звуках слова или картины и толковать их по своей прихоти. Но в эту минуту – нет.
Он забыл про капитанский мостик. Он стал частицей арифметической задачи, которую можно разрешить только сообща. И когда он ударил по клавишам, не он стал ведущим, казалось, даже не он вообще играет. Тут были не другие и он и уж тем более не он и другие – тут были они.
Они вместе действовали, вместе отсчитывали такт, повинуясь законам, которые ни один из них не мог подчинить себе. И Вилфред вышивал узор своего Моцарта по канве, которую он не мог выбирать или обсуждать, его дело было играть, хорошо или плохо. При этом он даже не боялся, что где-нибудь сфальшивит. Он попал под действие незримого закона.
Пальцы повиновались этому закону, но ему повиновалось и что-то в душе Вилфреда, как будто он все время отчетливо сознавал, что совершалось здесь в эту минуту. Впервые в жизни он не порхал где-то под сводом над другими существами. Он был частью инструмента, а тот был частью единства инструментов, и ожидание одного вызывало отзвук в другом согласно узору, которому не было конца.
И когда они кончили и маленький толстый альтист встал и зааплодировал, а тощий скрипач сгреб руки мальчика в свои и поднес, точно для обозрения, к самому свету канделябров, Вилфред не чувствовал ни усталости, ни радости, ни гордости, а только что его руки, голову, горло переполняет какой-то жаркий трепет, который рвется наружу. Он на ходу чмокнул мать в щеку, вышел из салона и побежал, точно его гнал страх, в уборную и заперся в ней. Потом, дрожа, упал на колени на пол и расплакался. Но когда он поднялся и высморкался, он все-таки не забыл потянуть за фарфоровую ручку и спустить воду, чтобы кто-нибудь услышал шум, тогда они решат, что он пошел в уборную просто по своей надобности. Чувство, пережитое им, он ни с кем не смел делить.
Но самое странное, что шум спускаемой воды, казалось, смыл куда-то Моцарта. А Вилфред остался стоять ожесточенный, холодный и чуть пристыженный.
Никогда прежде с ним не случалось ничего подобного. Никогда больше он не будет играть в присутствии других. Вилфред вдруг почувствовал, что где-то проходит граница между обыденным и подлинно прекрасным, что он ни разу не достиг этой границы и никогда не достигнет. Он не знал, где эта граница проходит, не знал, кто находится по эту, кто по другую ее сторону. Знал только, что сам он никогда не достигнет границы прекрасного. Но он не страдал от этого сознания. Оно принесло ему даже какое-то облегчение.
Вилфред на цыпочках прокрался в прихожую, взял пальто и шотландскую шапочку. Быстро перебросив пальто через руку, чтобы никто не успел выйти и остановить его, он тихонько отпер парадную дверь и, прижимаясь к самым перилам, спустился по лестнице с веранды причудливой старой виллы дяди Рене. Он слышал, что за желтыми занавесками снова раздается музыка. Теперь это был Дебюсси. Когда Вилфред вышел на дорогу, ведущую к городу, флейта дяди, приглушенно выговаривавшая свою жалобу, все еще доносилась до него.
На дороге, обсаженной деревьями, было темно и приятно. Вскоре показались огни городских фонарей. Все было тихо. Было хорошо. Он согрешил против чего-то или кого-то, может быть, против Моцарта. Больше он не повторит этот грех. Он не раскаивается. Но больше он его не повторит.
Но зато другие грехи… Все желания разом нахлынули на него, и, подстегиваемый ими, он побежал вприпрыжку, изнывая от восторга и томления. Мир был полон запретов и полузапретов и того, что было почти дозволено; мир, полный возможностей, лежал перед ним в ожидании. Мир греха, мир грехов. И он радовался ему… Впереди Вилфред увидел высокую красивую женщину, она шла одна. Ему захотелось бросить ее на дорогу, овладеть ею, он ускорил шаги, чтобы догнать ее. Но когда он оказался за ее спиной, решимость его исчезла. Он остановился, наклонился и стал завязывать шнурок, чтобы она снова ушла как можно дальше.
Но он понимал, что мог это сделать, мог, и сладкое болезненное чувство переполняло его при этой мысли.
С пылающими щеками и пересохшим горлом добрался он до городских улиц. Тут он немного успокоился. Но понемногу его снова охватил страх при воспоминании о том, что он натворил, – ведь его могут разоблачить. Он старался прогнать этот страх, вызывая в своем воображении картины всевозможных наслаждений и забываясь в них. Он чувствовал себя еще маленьким и слабым, но зато полным упорства и страстного желания. Он совершит все. Все, что захочет.
Только никогда, ни в чьем присутствии не станет играть Моцарта.
Фру Сусанна Саген отложила в сторону «Моргенбладет» и опасливо покосилась на часы, стоявшие под стеклянным колпаком на каминной полке. На круглом столе уже стоял наготове чайный поднос со старинным сервизом из фарфора и серебра. Поджидая брата, она против обыкновения закурила египетскую сигарету.
– Мартин, – спросила она его, когда он позвонил по телефону. – Что за таинственность? Разве мы не можем поболтать за обедом в воскресенье?
Но Мартин стоял на своем. Он хотел поговорить с сестрой, когда Вилфреда не будет дома. Стало быть, он хочет говорить о Маленьком Лорде «на правах крестного отца и опекуна». То, что он назвал его Вилфредом, не предвещало ничего доброго, словно брат задумал отпять у нее ее маленького сыночка.
Когда в дверь позвонили, она не двинулась с места. В эти последние секунды перед тем, как нарушат ее одиночество, она жадно впитывала в себя все то, чем была напоена атмосфера этих комнат, где она провела большую часть своей сознательной жизни. Эта обстановка олицетворяла ее жизнь, олицетворяла все, что входило для фру Сусанны в понятие жизни, и, почуяв смутную угрозу какой-то частице того, что ее окружало, она ощутила себя львицей, дремлющей в своем логове. А в то, что ее окружало, входил и Маленький Лорд, и равномерное тиканье часов на камине, и запахи дома, и даже его неизменная температура.