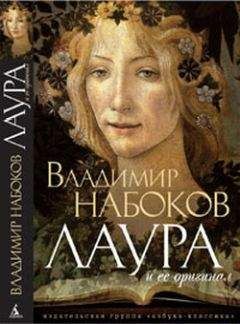Текст позволяет, даже приглашает предпринять немало куда более увлекательных экскурсов. Но теперь не время пускаться в такие далекие плавания. Мы не знаем главного: геометрии неосуществленной книги, ее обводных и соединительных каналов[86]. Сопоставляя подробные описания опытов Вайльда над собой с упоминанием о какой-то необыкновенной смерти героини, списанной с его жены, можно предположить, что здесь в некотором смысле подразумевается Пигмалион навыворот: ваятель, превращающий живую Галатею в мрамор. Загадочные слова о неуверенном в себе, нервном повествователе, который пишет портрет своей любовницы и тем самым ее уничтожает (карт. 61), получают под этим углом зрения неожиданно важное значение.
Слово «уничтожить» (obliterate) вообще самое последнее слово на последней карточке последнего сочинения Набокова, карточке, где выписаны в столбец синонимы этого понятия. Мы не можем знать наверное, отчего именно Набоков хотел, чтобы уже написанная часть будущей книги была уничтожена: из одного ли нежелания «показываться на публике в халате», т. е. из смеси артистической благопристойности с артистическим тщеславием, или оттого, что при приближении смерти человек иначе, может быть, смотрит и на «Энеиды», и на «Мертвые души», и на собственные свои черновики — особенно на собственные черновики.
10
Филипп Вайльд умирает от инфаркта, по-видимому у себя дома. В каждом романе, начиная с «Защиты Лужина» и во всех последующих (за двумя, может быть, исключениями), Набоков водяным знаком помещает и варьирует почти без развития тему неощутимого, но деятельного участия душ персонажей, умерших в пределах повествования, в судьбах еще действующих в нем лиц, с которыми их при жизни связывали отношения кровные или сердечные. Однажды подержав книгу Набокова на просвет и увидев контур этой темы, потом уже не можешь не проверять ее наличия и в прочих и не отмечать ее переходящих характерных признаков[87], Это какой-то странный, односторонний спиритизм, действие которого совершенно невидимо и даже неведомо персонажам, на которых оно направлено, и может быть распознано только наблюдателем извне, и то по обретении известного навыка. Часто читателю подается факт смерти такого духовода как бы невзначай, косвенно, особенно если она случилась в плюсквамперфектум, но ее-то, может быть, и должно держать в уме для понимания не только высшего сюжета, но и высшего замысла романа. Притом у Набокова никогда не бывает, чтобы читателю показывалась самая смерть крупным планом, в физически наглядном описании, как это заведено, например, у Толстого. В 1951 году Набоков в частном письме, единственном по своей откровенности в таких вещах, пишет, что его задуманные сочинения, подобно некоторым из тех, что он писал раньше, «будут… следовать системе, в которой второй (главный) сюжет переплетается с поверхностным и полупрозрачным — или же помещается позади него»[88].
Все романы Набокова — трагедии в том ограниченном смысле, что смерть, как их сказуемое, витает в них во всех временах, от давно прошедшего до будущего — в прошедшем повествовательном, разумеется[89]. Его известная максима, что «смерть [в романе] — вопрос стилистический», вместе плоска и глубока, в зависимости от угла зрения. Но если смотреть под прямым углом, то как далеко вглубь замысла Набокова можно заглянуть, имея на руках только публикуемые здесь от- рывки? Иными словами, уготована ли факту смерти одного из главных действующих лиц романа некая корректирующая роль в ходе повести, в участи Флоры или ее литератора-любовника? В свете вышесказанного понятно, что не о смерти как таковой речь, а вот именно о возможных последствиях посмертного участия духа Филиппа Вайльда в небезразличных ему земных делах и судьбах. Многое тут, конечно, зависит от того, к какой части романа относится карточка 94, где говорится о его фатальном сердечном приступе в одном предложении с известием о похищении последней главы рукописи Вайльда — вполне вероятно, той самой главы, где описывается, как он мысленным ластиком собирается коснуться своего сердца.
Стилистически смерть может быть и «fun», но нездешние заботы у Набокова отличаются от здешних даже в романах. Пушкин перед женитьбой, в последних строках скорее разом приконченного, чем оконченного «Онегина», следуя своим тогдашним мыслям, не имевшим отношения к роману, неожиданно для читателя называет жизнь праздником, с которого хорошо уйти рано, оставив бокал недопитым, и проч. Пушкин был слабостью Набокова, но эта мысль была ему совершенно чужда, он не знал уныния, многообразный шум жизни не томил его тоской, и ее дар был для него не только не напрасным, но всегда заново удивляющим и радующим и до слез неслучайным. Он упал чуть ли не дословно «с небесной бабочкой в сетке, на вершине дикой горы»[90], но умер через два года на больничной постели, и незадолго до конца, по словам его сына, прослезился о том, может быть, что уж не увидит лёта этой бабочки, а не о том, что книга его не кончена; о том, что кончена жизнь, что ему нужно разстаться с ней — а «не с Лаурою своей».
19 июня — 2 июля 2009 г.
На счетчике стояла единица с двумя нулями, т. е. один доллар, которые его родители с ужасом, но покорно приняли за сто. — Здесь и далее примечания переводчика.
Непристойные и поэтому запрещенные до 1960-х годов в Америке романы Генри Миллера «Тропик Рака» и «Тропик Козерога», вышедшие в 1934 и 1939 году в Париже в издательстве «Обелиск».
«Хорошие манеры» по-французски «bon ton» эта намеренная перестановка слов отсылает к книжке Дугласа Гофштадтера «Le Ton beau de Marot» (1997), в которой автор бранит Набокова последними словами за то, что тот отрицал допустимость рифмованного перевода таких трудных и больших поэтических вещей, как «Евгений Онегин». Первые два слова названия — многослойный каламбур: «ton beau» значит «твой любезный» или «красивое звучание» (только нужно поменять слова местами) и произносится практически так же, как «ton bоn» — или как tombeau, что значит «гробница» или «могильный памятник».
Кольридж, по его словам, не мог закончить поэму «Кубла-Хан», которую он уже было всю сочинил в опиумной полудреме, будучи прерван незваным пришельцем из Порлока (города на юго-западе Англии), и вспомнил и записал только 54 стиха. Жанна д'Арк говорила, что слышит нездешние голоса, повелевающие ей освободить Францию от англичан (в конце Столетней войны); она была сожжена в 1431 году как упорствующая в ереси. Об этих голосах глухо упоминает в письме к сводному брату Севастьян Найт в первом английском романе Набокова.
Может быть, «Франкенштейн-младший», грубый фарс Мела Брукса (1974) (см. Послесловие переводчика). Не зная наверное, нельзя сказать, в буквальном или фигуральном смысле здесь это poisonous (ядовитый, отравленный).
У Набокова здесь слово «наблюдая» написано дважды, перед «старым профессором» и после, как будто Поль де Г[олль?] наблюдал за профессором, который в свою очередь смотрел на мальчиков. Скорее всего, Набоков забыл зачеркнуть первое деепричастие. — Прим. ред.
Тем хуже.
Не делая никаких выводов, можно заметить акустическое сходство имени героини «Моей Лауры» с рейнской сиреной из известной поэмы Гейне «Лорелея».
Пародия названий балетов Фокина в Ballets Russes, например «Нарцисс и Эхо» Черепнина (1911) или «Дафнис и Хлоя» Равеля (1912).
Смесь мелких новостей.
Последние слова неоконченной «Русалки» Пушкина.
Этот глагол по-французски значит еще и «тереться», «околачиваться».
Коснуться их губами.
У Набокова здесь Daisy, ромашка, подчеркнуто флоральное имя, но неудобное по-русски, отчего пришлось выбрать для нее другой цветок.
По-английски созвучие еще сильней: Asparagus — Aspirin.
В рукописи слово «ней» (her) написано неясно — его можно прочитать и как here («здесь»), т. е. «…между местом, где они теперь, и школой».
En passant: диагональный ход пешкой, которым она может забрать соседнюю пешку соперника, сделавшую предыдущим своим ходом прыжок на два поля от начального и таким образом миновавшую битое поле.