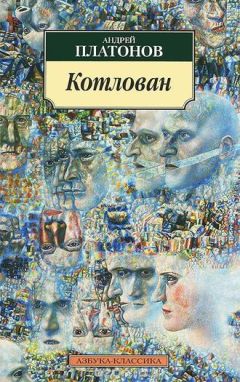Козлов продолжал лежать умолкшим образом, будучи убитым; Сафронов тоже был спокоен, как довольный человек, и рыжие усы его, нависшие над ослабевшим полуоткрытым ртом, росли даже из губ, потому что его не целовали при жизни. Вокруг глаз Козлова и Сафронова виднелась засохшая соль бывших слез, так что Чиклину пришлось стереть ее и подумать — отчего ж это плакали в конце жизни Сафронов и Козлов?
— Ты что ж, Сафронов, совсем улегся иль думаешь встать все-таки?
Сафронов не мог ответить, потому что сердце его лежало в разрушенной груди и не имело чувства.
Чиклин прислушался к начавшемуся дождю на дворе, к его долгому скорбящему звуку, поющему в листве, в плетнях и в мирной кровле деревни; безучастно, как в пустоте, проливалась свежая влага, и только тоска хотя бы одного человека, слушающего дождь, могла бы вознаградить это истощение природы. Изредка вскрикивали куры в огороженных захолустьях, но их Чиклин уже не слушал и лег спать под общее знамя между Козловым и Сафроновым, потому что мертвые — это тоже люди. Сельсоветская лампа безрасчетно горела над ними до утра, когда в помещение явился Елисей и тоже не потушил огня; ему было все равно, что свет, что тьма. Он без пользы постоял некоторое время и вышел так же, как пришел.
Прислонившись грудью к воткнутой для флага жердине, Елисей уставился в мутную сырость порожнего места. На том месте собрались грачи для отлета в теплую даль, хотя время их расставания со здешней землей еще не наступило. Еще ранее отлета грачей Елисей видел исчезновение ласточек, и тогда он хотел было стать легким, малосознательным телом птицы, но теперь он уже не думал, чтобы обратиться в грача, потому что думать не мог. Он жил и глядел глазами лишь оттого, что имел документы середняка, и его сердце билось по закону.
Из сельсовета раздались какие-то звуки, и Елисей подошел к окну и прислонился к стеклу; он постоянно прислушивался ко всяким звукам, исходящим из масс или природы, потому что ему никто не говорил слов и не давал понятия, так что приходилось чувствовать даже отдаленное звучание.
Елисей увидел Чиклина, сидящего между двумя лежащими навзничь. Чиклин курил и равнодушно утешал умерших своими словами:
— Ты кончился, Сафронов! Ну и что ж? Все равно я ведь остался, буду теперь, как ты; стану умнеть, начну выступать с точкой зрения, увижу всю твою тенденцию, ты вполне можешь не существовать…
Елисей не мог понимать и слушал одни звуки сквозь чистое стекло.
— А ты, Козлов, тоже не заботься жить. Я сам себя забуду, но тебя начну иметь постоянно. Всю твою погибшую жизнь, все твои задачи спрячу в себя и не брошу их никуда, так что ты считай себя живым. Буду день и ночь активным, всю организационность на заметку возьму, на пенсию стану, лежи спокойно, товарищ Козлов!
Елисей надышал на стекло туман и видел Чиклина слабо, но все равно смотрел, раз глядеть ему было некуда. Чиклин помолчал и, чувствуя, что Сафронов и Козлов теперь рады, сказал:
— Пускай весь класс умрет — да я и один за него останусь и сделаю всю его задачу на свете! Все равно жить для самого себя я не знаю как!.. Чья это там морда уставилась на нас? Войди сюда, чужой человек!
Елисей сейчас же вошел в сельсовет и стал, не соображая, что штаны спустились с его живота, хотя вчера вполне еще держались. Елисей не имел аппетита к питанию и поэтому худел в каждые истекшие сутки.
— Это ты убил их? — спросил Чиклин.
Елисей поднял кверху штаны и уж больше не упускал их, ничего не отвечая, наставя на Чиклина свои бледные, пустые глаза.
— А кто же? Пойди приведи мне кого-нибудь, кто убивает нашу массу.
Мужик тронулся и пошел через порожнее сырое место, где находилось последнее сборище грачей; грачи ему дали дорогу, и Елисей увидел того мужика, который был с желтыми глазами; он приставил гроб к плетню и писал на нем свою фамилию печатными буквами, доставая изобразительным пальцем какую-то гущу из бутылки.
— Ты что, Елисей? Аль узнал какое распоряжение?
— Так себе, — сказал Елисей.
— Тогда — ничего, — покойно произнес пишущий мужик. — А мертвых не обмывали еще в совете? Пугаюсь, как бы казенный инвалид не приехал на тележке, он меня рукой тронет, что я жив, а двое умерли.
Мужик пошел помыть мертвых, чтобы обнаружить тем свое участие и сочувствие; Елисей тоже побрел ему вслед, не зная, где ему лучше всего находиться.
Чиклин не возражал, пока мужик снимал с погибших одежду и носил их поочередно в голом состоянии окунать в пруд, а потом, вытерев насухо овчинной шерстью, снова одел и положил оба тела на стол.
— Ну, прекрасно, — сказал тогда Чиклин. — А кто ж их убил?
— Нам, товарищ Чиклин, неизвестно, мы сами живем нечаянно.
— Нечаянно! — произнес Чиклин и сделал мужику удар в лицо, чтоб он стал жить сознательно. Мужик было упал, но побоялся далеко уклоняться, дабы Чиклин не подумал про него чего-нибудь зажиточного, и еще ближе предстал перед ним, желая посильнее изувечиться и затем исходатайствовать себе посредством мученья право жизни бедняка. Чиклин, видя перед собою такое существо, двинул ему механически в живот, и мужик опрокинулся, закрыв свои желтые глаза.
Елисей, стоявший тихо в стороне, сказал вскоре Чиклину, что мужик стих.
— А тебе жалко его? — спросил Чиклин.
— Нет, — ответил Елисей.
— Положь его в середку между моими товарищами.
Елисей поволок мужика к столу и, подняв его изо всех сил, свалил поперек прежних мертвых, а уж потом приноровил как следует, уложив его тесно близ боков Сафронова и Козлова. Когда Елисей отошел обратно, то мужик открыл свои желтые глаза, но уже не мог их закрыть и так остался глядеть.
— Баба-то есть у него? — спросил Чиклин Елисея.
— Один находился, — ответил Елисей.
— Зачем же он был?
— Не быть он боялся.
Вощев пришел в дверь и сказал Чиклину, чтоб он шел — его требует актив.
— На тебе рубль, — дал поскорее деньги Елисею Чиклин. — Ступай на котлован и погляди, жива ли там девочка Настя, и купи ей конфет. У меня сердце по ней заболело.
Активист сидел с тремя своими помощниками, похудевшими от беспрерывного геройства и вполне бедными людьми, но лица их изображали одно и то же твердое чувство — усердную беззаветность. Активист дал знать Чиклину и Вощеву, что директивой товарища Пашкина они должны приурочить все свои скрытые силы на угождение колхозному разворачиванию.
— А истина полагается пролетариату? — спросил Вощев.
— Пролетариату полагается движение, — произнес активист, — а что навстречу попадается, то все его: будь там истина, будь кулацкая награбленная кофта — все пойдут в организованный котел, ты ничего не узнаешь.
Близ мертвых в сельсовете активист опечалился вначале, но затем, вспомнив новостроящееся будущее, бодро улыбнулся и приказал окружающим мобилизовать колхоз на похоронное шествие, чтобы все почувствовали торжественность смерти во время развивающегося светлого момента обобществления имущества.
Левая рука Козлова свесилась вниз, и весь погибший корпус его накренился со стола, готовый бессознательно упасть. Чиклин поправил Козлова и заметил, что мертвым стало совершенно тесно лежать: их уж было четверо вместо троих. Четвертого Чиклин не помнил и обратился к активисту за освещением несчастья, хотя четвертый был не пролетарий, а какой-то скучный мужик, покоившийся на боку с замолкшим дыханьем. Активист представил Чиклину, что этот дворовый элемент есть смертельный вредитель Сафронова и Козлова, но теперь он заметил свою скорбь от организованного движения на него и сам пришел сюда, лег на стол между покойными и лично умер.
— Все равно бы я его обнаружил через полчаса, — сказал активист. — У нас стихии сейчас нет ни капли, деться никому некуда! А кто-то еще один лишний лежит!
— Того я закончил, — объяснил Чиклин. — Думал, что стервец явился и просит удара. Я ему дал, а он ослаб.
— И правильно: в районе мне и не поверят, чтоб был один убиец, а двое — это уж вполне кулацкий класс и организация!
После похорон в стороне от колхоза зашло солнце, и стало сразу пустынно и чуждо на свете: из-за утреннего края района выходила густая подземная туча, к полуночи она должна дойти до здешних угодий и пролить на них всю тяжесть холодной воды. Глядя туда, колхозники начинали зябнуть, а куры уже давно квохтали в своих закутах, предчувствуя долготу времени осенней ночи. Вскоре на земле наступила сплошная тьма, усиленная чернотой почвы, растоптанной бродящими массами; но верх был еще светел — среди сырости неслышного ветра и высоты там стояло желтое сияние достигавшего туда солнца и отражалось на последней листве склонившихся в тишине садов. Люди не желали быть внутри изб — там на них нападали думы и настроения, — они ходили по всем открытым местам деревни и старались постоянно видеть друг друга; кроме того, они чутко слушали не раздастся ли издали по влажному воздуху какого-либо звука, чтобы услышать утешение в таком трудном пространстве. Активист еще давно пустил устную директиву о соблюдении санитарности в народной жизни, для чего люди должны все время находиться на улице, а не задыхаться в семейных избах. От этого заседавшему активу было легче наблюдать массы из окна и вести их все время дальше.