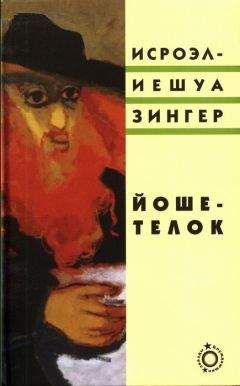В комнате не было никакого зеркала, Боже упаси. Но Малкеле смотрелась во все: в серебряные подносы, в расставленные повсюду шкатулки, во все блестящие штучки и в маленькое зеркальце — единственное имущество, которое она привезла с собой, украдкой вынеся его из тетиного дома. Голова Малкеле теперь была маленькой, бритой, и при виде отражения у нее екнуло сердце, как будто кто-то кольнул его тонким острым ножом.
— Обезьяна, — сказала она женщине в маленьком зеркальце.
Но вскоре Малкеле надвинула черную шелковую косынку до бровей, до густых бровей, смыкавшихся над тонким подвижным носом. Она состроила несколько гримас и полюбовалась собой.
Малкеле еще точно не знала, что бы такого сделать, что ей взбредет в голову. Но воспоминаниями она уже пресытилась. Девушка взяла одно из украшений, взвесила на ладони, посмотрела на него, и в ее черных глазах радостно засверкали бриллиантовые огоньки.
«С таким сокровищем, — озарило ее, — можно и сбежать ночью, когда потянет отсюда в дорогу, в Будапешт».
От одной мысли о том, какие у всех будут лица наутро, когда они обнаружат пустую комнату, какой перепуганный вид будет у тети Эйделе и дяди-заики, она громко расхохоталась, стоя посреди голой комнаты. Даже служанка — толстая, засидевшаяся в невестах, но веселая девица — прибежала на звук.
— Ты зачем это? — спросила Малкеле.
— Прежние ребецн — долгих вам лет, ребецн[69], — никогда не смеялись. И тут вдруг смех!
От слов служанки ей стало грустно, сердце обдало холодом, и комната сделалась ей душна. Неведомые дальние дали подступили ближе, позвали ее.
Но вдруг она увидела во дворе человека — человека, которого никак не ожидала здесь встретить. И в один миг почувствовала, что должна быть здесь, не в неведомой дали, а в большом дворе с облупленными стенами; что вся ее тоска ничего не значит, что только здесь ее место, счастье и судьба.
После всех возлияний, пирушек, приглашений, которые дочери и невестки ребе — замужние дамы, молодые и в летах — устраивали для Малкеле, новой ребецн, потчуя ее вареньем, лестью, шутками и коврижками, — под конец она была приглашена к Сереле, младшей дочери.
Сереле искала дружбы с Малкеле более всех остальных. В приглашении Сереле не было никакого расчета, никакой «политики» она не вела и знать о ней не знала. Она была слишком юной, бесхитростной и слепо преданной своему Нохемче, чтобы разбираться в таких вещах. Большая, добродушная, она была чужда всякой ненависти и злобы, далека от лести и хитрости. Ей просто хотелось иметь подругу-сверстницу, ведь после свадьбы каждая молодая женщина, которая любит мужа и не знает мужского общества, нуждается в близкой подруге, товарке, чтобы поговорить по душам, поделиться радостью и огорчением, доверить тайну.
Сереле понаставила на стол много напитков, вазочек с липкими медовыми коржиками, разнообразным вареньем, вишневую наливку, соки и миндаль. Она не знала, что говорить Малкеле, стеснялась, не знала, как к ней обращаться. Для нее Малкеле была и подругой, почти ровесницей, и в то же время старшей: женой отца, мачехой. Она не могла заставить себя обращаться к ней на «ты», но и на «вы» тоже не могла. Поэтому Сереле без конца краснела, перебирала нитки жемчуга на гостье и обращалась к ней в третьем лице, повторяя одни и те же бессмысленные фразы:
— Ой, Малкеле совсем не пробует варенья… Малкеле не понравился напиток…
Малкеле была сыта по горло и сластями, и льнущей к ней Сереле с ее убогими фразами, такими же скучными и липкими, как ее варенье и медовые коржики.
Девушка попрощалась и направилась к дверям. Но на пороге она встретилась с Нохемче, мужем Сереле. Он входил в комнату как раз тогда, когда она выходила. Они хотели обойти друг друга, но вместо этого столкнулись еще сильнее. Был исход субботы, комнату освещали только две свечи, и в ней было больше тени, чем света.
В цветастом шелковом халате, сквозь который проступал каждый изгиб его стройного тела, в белом воротничке рахмановского хасида вокруг нежной смуглой шеи, он стоял в дверном проеме, тонкий, миловидный, окутанный субботними сумерками. Перед ним в длинном черном шелковом платье и черной шелковой косынке до бровей стояла стройная смуглая Малкеле. Сначала они засуетились, перепугались, каждый хотел обойти другого, сказать что-то, но оба не могли подыскать слова. И вдруг их взгляды встретились. Две пары глаз — черных, пламенных, вдохновенных — озарили друг друга, обожгли, окатили волной близости, счастья и оцепенели, как под гипнозом.
Сереле могла бы спасти положение. Ей надо было всего лишь подойти, сказать слово. Рассказать мужу, что это — Малкеле, молодая ребецн, и вывести обоих из этого нежданного оцепенения, из которого они не могли выйти. Но она оставалась на месте, словно парализованная. Она смотрела таким застывшим взглядом, опустив руки, как бедная женщина, которая уронила стеклянную вазу и молча разглядывает осколки у своих ног. Первым опомнился Нохемче. Резким движением он поднес к глазам узкую мальчишескую руку, посторонился и смущенно заговорил.
— Доброй недели вам, — тихо сказал он.
От его слов Малкеле пришла в себя, и по ее лицу, от густых бровей до застегнутого под подбородком воротника платья, разлился румянец.
— Мама! — взволнованным голосом вымолвила она.
И сразу же побежала к себе, так быстро, как будто за ней гнались, и поскорее высвободилась из узкого зашнурованного платья, из всего этого китового уса и проволоки. В груди теснило от счастья, сострадания и любви к тому, с кем она внезапно встретилась в дверях. Вместе со страстью он пробудил в ней материнскую любовь. Она чувствовала такое же горячее влечение к юноше в цветастом шелковом халате, как за несколько лет до того — к чужим детям, чьи матери убегали от нее. Ей хотелось ласкать его, прижимать к груди, накручивать его локоны на пальцы, жертвовать собой ради него, отдать за него жизнь.
Новое, незнакомое доныне чувство пронизывало все ее тело, от корней волос до кончиков ногтей на пальцах ног: прижать к груди ребенка, своего ребенка, который будет точь-в-точь таким же красивым и милым, как он, тот, кого она только что увидела — чужого и такого близкого — в первый раз. Это чувство было таким сильным и болезненным, что она обнажила юную маленькую грудь, твердую и трепещущую, и нежно приподняла ее обеими ладонями, словно бы кормя новорожденного, который еще не может сам взять грудь.
А Нохемче лежал в своей постели без сна, пылая, как в горячке. Во дворе пели хасиды, засидевшись допоздна за «проводами царицы»[70]. Кто-то качал воду из колодца, насос скрипел в ночи. Но это не раздражало Нохемче, как обычно. Он даже не слышал скрипа. Он видел ее, одну ее в дверном проеме. Ее пламенные глаза обжигали его. И Нохемче протянул руку к Сереле и стал ласкать, сначала мягко, затем все сильнее и неистовее.
Никогда еще Сереле не видела от своего Нохемче столько любви, как в ту ночь. Упоенная счастьем, она не услышала, как он называет ее чужим именем.
— Малкеле, — горячо прошептал он.
Нохемче погрузился в изучение каббалы. Он читал:
«Секрет слияния заключается в завершенности, женская и мужская силы должны полностью сойтись, стать единой плотью. И мужчина, избранный Госпожой[71], с вожделеющим взором и великим томлением ожидает прихода прекрасной и желанной, и с радостью припадает к ней, и ласкает ее, и доставляет ей наслаждение. И после поцелуя (который есть слияние душ), после внутреннего телесного слияния, происходит слияние наружное — рука к руке, уста к устам, глаза к глазам. И двое, соединившись в поцелуе, дышат одним дыханием. И улемто шапирто, прекрасная дева без глаз, против которой все прочие безобразны и темны и которой подражают все мужские и женские силы в своей любви, сливаясь и соединяясь…»
Талмудические тексты он изучать не мог. Его наставник, реб Псахья Звилер, который остался при нешавском дворе, чтобы заниматься с Нохемче, сидел с ним, разбирая трудные места из Талмуда, но Нохемче ничего не мог воспринимать. Его глаза даже не видели букв. Они видели только ее, Малкеле. Он видел ее на страницах религиозных книг, в резных фигурках львов на орн-койдеше[72], в бархатных чехлах свитков Торы, в красном зареве закатного неба. Даже в вышитых золотом буквах Божьего имени на шивиси[73] он видел Малкеле. Страницы каббалистических книг были ему ближе, они говорили с ним.
Реб Псахья — человек с редкой светлой бородкой, из тех, что никогда не седеют, — не узнавал Нохемче. Юноша теперь все время был задумчив, чем-то поглощен, озабочен. В важнейшие минуты учебы, на самых трудных местах, где надо хорошенько поломать голову, Нохемче вдруг заглядывался на какую-то чепуху: на жужжащую муху, косой луч солнца, пролетающую мимо птицу, что задела кончиком крыла окно бесмедреша.