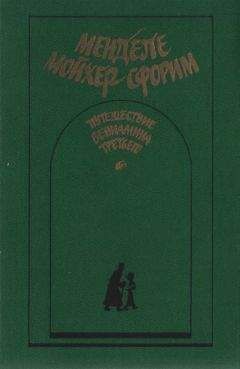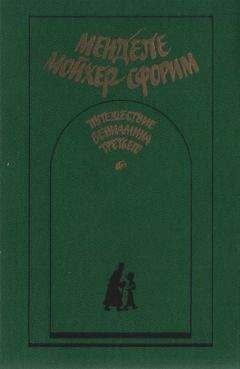— Что ты говоришь, Гецл? Как так? А вчера, только вчера?
— Что вчера? Что такое, доктор, было вчера?
— У тебя короткая память! Ты, видно, забыл, Гецл! А ради кого велел я вчерашнему больному поставить тридцать пиявок? Он, между нами говоря, так же нуждался в твоих пиявках, как и мы с тобой. Было бы вполне достаточно приложить мокрую тряпку к голове. Фу, стыдно тебе, право, Гецл! Только ради тебя я вчера действительно сделался маленьким человечком!..
— Вы, доктор, только вчера были человечком, как вы говорите, а я всегда ваш человечек — и позавчера, и вчера, и сегодня. Между нами говоря, разве сегодняшнему больному нужен был доктор? У него просто насморк, и, только послушавшись моего совета, он вызвал вас… Значит, есть надежда, что он еще две недели будет вас приглашать, и по два раза в день. Ничего, не страшно: он богат, этот боров, и вполне может прохворать пару недель…
— Ну, так чего же ты хочешь, Гецл?
— У меня много пиявок! Пиявки, доктор!
— Будь спокоен, Гецл! Ты будешь ставить ему пиявки. Постой! Но доброкачественный ли у тебя товар, Гецл? Ты ведь знаешь, я очень строг в этих вещах…
— Свеженькие пиявочки, доктор, бог мне свидетель! Я и сам избегаю обманывать других…
«Э-ге-ге! Так вот как дело обстоит! — думал я про себя, после того как услышал весь этот разговор и хорошенько разобрался в нем, лежа ночью на своей кровати. — Судя по тому, что я тут слышу и вижу, человека называют человечком не просто потому, что он мал ростом, как я, глупенький, думал раньше. Можно, оказывается, быть большим, даже очень большим, и одновременно маленьким человечком». Я постиг, что быть человечком, — значит, присасываться и пить чужую кровь, жить обманом… Так вот где собака зарыта! Теперь я начал понемногу все как следует понимать, набираться ума-разума. Вот что значит пообтесаться среди людей на белом свете! Но легче ли мне от того, что я узнал этот секрет, ведь я же не доктор, не фельдшер, не умею ставить пиявки. Необходимо искать какой-то другой способ. Что-то в том же роде, но на иной манер, — и присосаться к чему-то, и вместе с тем не просто сосать кровь. Существует, вероятно, и много других способов, о которых надо дознаться. В этом доме мне уже больше делать нечего. Как же быть дальше? Ага! У меня вдруг блеснула мысль: быть может, Исер Варгер? Право, говорю я сам себе, это дельно. Надо пролезть к Исеру Варгеру, честное слово, к Исеру Варгеру! Сердце подсказывает мне: к нему, к Исеру Варгеру! Исер Варгер ведь тоже — человечек, и с очень большим размахом, а?!
Такого рода мысли завладели мной и не давали спать почти всю ночь. В эту ночь я стал старше на несколько лет, почувствовал в себе какую-то перемену. Назавтра я не мешкая разыскал своего знакомого маклера, пообещал вознаградить его еще щедрей, чем прежде, и через несколько дней он всучил меня Исеру Варгеру».
14
— Одно только слово, ребе[27], не помешаю!.. А? Что? Можно мне? — вдруг прерывает чтение чей-то громкий голос из-за двери, и тотчас же, не дождавшись ответа, в комнату вваливается упитанный человек с обросшим лицом, без кафтана, в заплатанной фуфайке, из-под которой выглядывают обрывки болтающихся у коленей засаленных цицес, в грубых, прошу прощения, портках, огромных сапожищах, покрытых толстым слоем грязи, возможно еще прошлогодней, издававших едкий запах пота и дегтя.
— А, Беня! — произносит раввин, взглянув на эту фигуру. — Что ты скажешь, Беня?
— Что мне сказать? — отвечает Беня, почесав затылок. — Так, ничего… Говорю, деньги за месяц я уже у раввинши забрал. Воду еще вчера ночью шесть раз привез, всю ночь вчера имел дело — возил. Кончина Ицхок-Аврома меня — ну и ну! — здорово подвела. Мои расчудесные хозяева, что по соседству с ним, воду вылили, остались без воды…[28] Ну, нет воды, невозможно варить… Кто виноват? Водовоз виноват. Тому хочется умереть, ну ладно… Так нет же! На чью голову это валится? На водовоза, на его голову. Ходи, езди, вози им, провались они сквозь землю! Вози им воду. Всю ночь не спал. Уже засветло, только я задремал, подходит мать, жить ей долгие годы, будит меня: «Беня, Беня! Вставай, запри за мной дверь. Беня, я к первой молитве иду, а из синагоги, Беня, пойду на кладбище, поминки сегодня у меня. На загнетке варится горшок кулеша, я поставила, присмотри за ним». Выпроваживаю мать и ложусь. Дремлю, слышу — пик-пик-пик. Петух с курами, провались они сквозь землю, стоят на столе, клюют ломоть хлеба, клюют вовсю. «Киш!» — кричу. Киш — раз, киш — два; что понимают куры? Клюют себе. Тут как раз, пропади она пропадом, подвернулась деревянная ложка, мясная…[29] Я — хвать ложку и — к курам. Слышу — что-то выкипает на загнетке, вот я ложкой мясной не в кур — а в молочный горшок… И вот тебе незадача! Как же быть, ребе? Разве ложка мясная? На ней еще нет и трех щербин, совсем как молочная ложка. Мясного, честное слово, ею не ел, боже упаси! Клянусь здоровьем! А горшок молочный потому, что всегда с загнетки ставится на молочную скамью[30]. Ведь с тех пор, как моя коза подохла, нет мне молока, кукиш мне, а не молоко! Вот, ребе, и разрешите мой вопрос!
— А велик ли горшок? — спрашивает раввин.
— Больше моей головы, — отвечает Беня, — может, с ведро, я из него наедаюсь до отвала, потом работаю целый день без харча.
— Кошер![31] — решает раввин.
Беня выходит, и вбегает женщина с криком, с плачем:
— Ребе, сил моих больше нет выдержать такое! Вы, конечно, только хорошего желали, дорогой ребе, когда наладили нашу жизнь, не допустили до развода, но — врагам моим пожелаю такую жизнь. Ваши золотые слова отскочили от него как горох от стенки. Разве он прислушивается к тому, что целый мир говорит? Он делает свое и изводит меня до смерти. Я унижаюсь, беру в долг, скупаю на базаре яйца, кур, только бы что-нибудь заработать, только бы поддержать голодных, оборванных, ободранных детишек, а он… Он знать ничего не знает, кроме своей хасидарни[32], где проводит целые дни со своими друзьями. Пьют, болтают, рассказывают сказки, а домой он является на все готовенькое. Глянул бы хоть раз на детей, хотя бы для виду спросил, как они поживают. Ему вообще до них дела нет, точно они ему чужие. Мне никогда доброго слова не скажет, точно я ему запродана, точно я служанка, недостойная даже прислуживать ему. Только и слышу: «Безмозглая дура! Отребье!» Под праздник уезжает он к своему ребе[33], забирает у меня последнее и валандается там с компанией таких же, как и он. Трогало бы его хоть немного, что у него есть дом, жена и дети, что они часто сидят без куска хлеба, горе мыкают, бедняжки. А посмей я хоть словом возразить ему, он стращает, что бросит, оставит меня, докажет свое старшинство, докажет, чего стоит женщина. Женщина, говорит он, никчемное, никудышное существо! Сегодня утром приходит из молельни: в доме холод, хоть волком вой, уже больше двух дней, как из моей трубы дыма не видать. Дети дрожат, трясутся, просят есть, а маленький в колыбельке уже охрип от крика; я бедняжку грудью не кормлю: нет у меня в груди молока. Да и откуда ему взяться, когда я уже два дня сохну, во рту ложки варева не было. «Дура! — говорит он мне торжественно. — Увяжи в узелок рубаху и субботний кафтан». Я поняла, что он собирается со своей компанией ехать «туда»: ведь скоро ханука. Горько стало у меня на сердце, очень горько, я возьми и скажи ему: «Душегуб ты этакий! О чем же ты думаешь? Взглянул бы ты хоть на своих детей, как они чахнут, страдают, а твоя голова забита пустыми, глупыми затеями! Так уж и быть, жена, говоришь, никчемное существо, дура, баба, сука, но дети, — кричу я, — твои дети!..» Только я ему все это высказала, как налетел он на меня со злостью, с криком: «Ах ты дура! Ты смеешь так бранить меня, называть глупостями святыни, которые не под силу твоему бабьему уму!.. Ах ты такая-сякая! Ну, на этот раз — конец! Я тебя навеки, вот именно навеки покидаю, и останешься ты себе на позор брошенной[34]. Ничего! Я мужчина, и тебя, отребье, я обязан проучить, чтобы ты поняла, что такое женщина…» Мало ему было того, что он мне наговорил, он меня еще исщипал. Вот смотрите, прошу прощения, как он исщипал мне руки, видите, все в синяках! Помогите, ребе, спасите меня! Пусть он даст мне развод. Сил моих больше нет выдержать такое!..
— Иди, иди домой! — говорит раввин мягким, дрожащим голосом, и глаза его делаются влажными от жалости. — Я сегодня же пошлю служку, чтобы он его ко мне привел.
Едва вышла эта женщина, вошла, шаркая шлепанцами, жена служки в накинутом на одно плечо халате. Под мышкой у нее была простыня.
— Бог в помощь! — прикоснувшись рукой к мезузе[35], обратилась она к раввину с благочестивым выражением на личике. — Хочу побеспокоить вас только на одну минуту, ребе, продли господь бог ваши дни, с вопросом по «женской части». Возьмите, ребе, пожалуйста, простыню.