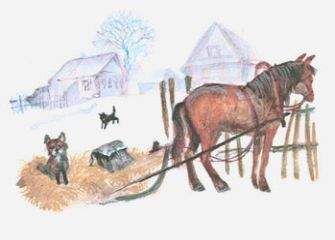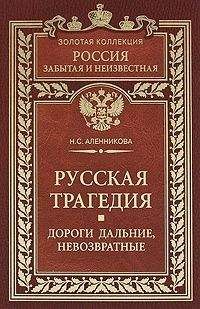…Помню, сразу после вражеского нападения гитлеровцев, буквально через несколько дней, пришли повестки молодожёну Николаю Барову, Ваське Морошкину, Серёге Пудову и десяткам других. Типичное: «при себе иметь кружку, ложку, полотенце и на трое суток продуктов» получили все молодые парни и мужики. Помню, как плакал, уходя на войну, один — муж Лидии Мироновой из деревни Пичихи. Так плакал, что слезы горохом. При этом он говорил, что его убьют, ему дома больше не бывать и, как в песенке, «по зелёному лужку с сударушкой не хаживать».
Лидию, его сударушку, с того печального дня так и прозвали Молодкой, Молодкой она и оставалась до своей кончины.
Большинство призванных сразу погибли, уже в июле пришли первые извещения.
(Проявляя, может быть, излишний интерес к прошлому нашей семьи, послал я письмо одной землячке — Лукичёвой Марии. Она охотно ответила:
«Добрый день, здравствуйте, Василий Иванович и вся ваша семья. С Новым годом и с Рождеством Христовым поздравляю вас всех. Василий Иванович, письмо ваше я получила и про Перьят сколько помню, опишу. У них семья была большая, отец, жена, четыре сына и дочь. Они были, как раньше звали, середняки. У них была одна лошадь, две коровы и овцы. Ещё был дегтярный завод, гнали дёготь и продавали. Пока живой был отец у Ивана, он пёк баранки и пряники, я это помню хорошо, мы бегали к ним, так нам совали пряников и баранков. Они продавали пряники и баранки. Как помер старик, тогда Иван Степанович стал ездить на ярмарки с дёгтем. У него был дружок Цветков Иван Петрович по прозвищу Ярыка. Ярыка жил справно, держал две лошади, жеребца, пять коров и мелкую скотину. Он всегда держал работника. Торговал лошадьми. Вот они вместе с Иваном Степановичем ездили на ярмарки, а как приедут с ярмарки, у них начинался спор, кто больше выручил. Потом стала коллективизация. Ярыку раскулачили и выслали не знаю куда. А Иван Степанович со своей семьёй вошёл в колхоз, у него старший сын и второй были коммунистами. Все четверо сыновей были женаты, были дети.
Потом старший сын с семьёй уехал на Дальний Восток, а эти жили дома до войны. С войны из них никто не вернулся, их жёны с детьми куда-то уехали, но вот у Платона жена, как получила похоронку, она тогда жила в Пундуге, то не могла перенести, сама себе ножиком распорола брюхо. Остались сиротами два мальчика.
Когда в колхозе жили, то было много народу. У ребят Алехинцевых была гармонья, так Костя всё на сенокос ходил с гармоньей. А Перьята, сыновья Коля и Вася, были коммунистами, организовывали колхозы, а отец их и в колхозе гнал дёготь, а когда не стал справляться с работой, то передал завод Антохе Пичишному, тот недолго гнал, завод сгорел.
Про Перьят сыновей была частушка:
У Перъёнковых братанов
На троих одни портки,
Платон носит, Вася просит,
Николаю коротки.
Василий Иванович, спасибо вам за книжку, я с такой радостью читала. С приветом к вам Лукичёва Мария. 15 января 2001 г.»)
Отец Иван Фёдорович чувствовал, что и ему предстоит уходить на фронт. Как-то он подвыпил (вспоминая только что полегших), взял ружьё с заряженными патронами, складной, чуть ли не хлебный ножик и повёл меня в поле. Это поле почему-то называлось четвёртым.
Была сухая, довольно тёплая погода, был полдень, и запах полевых цветов дополнял всю роскошь летнего дня. Белые кучевые облака в бесконечном голубом небе почти не двигались, ветерок дул совсем ласково, словно лишь для прохлады. Несмотря на июль, ещё взлетали жаворонки, захлебываясь своими журчащими голосами, то поднимаясь вертикально ввысь, то опускаясь так же вертикально.
Отец положил ружьё в траву, срезал ивовый прутик и вырезал мне свистульку. Подул, а она не свистит. Тут уже я принялся настраивать, в этом деле я был уже ловчее отца. Сок в иве шёл на убыль, но я сделал свистульку. Поколотили, чтоб «свернуть». Посвистели оба по очереди… Но меня больше интересовало лежащее рядом ружьё (сломка 16 калибра). Отец не стал меня больше мучить, показал, как взводить курок, как прицеливаться и нажимать на спусковой крючок. Лишь после этого вставил патрон. Но сначала выстрелил сам прямо в синее небо, «сломал» ружьё, вынул гильзу. Я спросил:
— Татя [Мы со старшим братом звали отца именно так: татя. Писатель В. Маслов, уроженец Поморья, зовёт отца татой. Тятя, тата, татя… Просклоняете каждое слово, и вы почувствуете разницу, она укажет на богатство русского языка], а чем это так пахнет?
— Сынок, это порохом так пахнет. Бери вот патрон и заряжай сам!
Я оказался на седьмом небе… «Сломил» одностволку не без натуги. Вставил патрон с дробью, запыженной газетной бумагой.
— Не торопись! Осторожней… — предупредил отец. — Поднимай прикладом к плечу… Я взведу тебе курок, а ты пока целься…
Куда там целься! От восторга я сумел только поднять одностволку под углом. Отец едва успел взвести курок, и я бахнул не целясь… Газетные пыжи долго падали в полевую траву… Мне хоте лось палить ещё и ещё, но отец, смеясь, сказал, что патронов больше нет. Мне не было восьми лет, но я впервые почуял в себе взрослого во всех трёх ипостасях: пахаря, охотника и солдата. Я хвастался перед сверстниками, как заряжал и стрелял, как пыжи разлетелись. Был я счастлив, хотя в деревне то тут, то там женщины выли и причитали.
Но сейчас мне хочется вернуться к «передним», то есть предвоенным, подлинно счастливым своим годам. Сказать, что я уже тогда стал пчеловодом, конечно, нельзя, но с отцовским, пахнущим гарью дымарём, с кисейными сетками и громадной медогонкой был я уже запанибрата.
У отца имелось четыре или пять «домиков», как мы называли ульи. Они стояли на горке около нашего амбарчика. В жаркую погоду мы наставляли по два-три «магазина». В такую же пору отец с мамой качали мёд деревянной медогонкой, оборудованной из большого чана, в котором варили когда-то сусло.
Прежде чем обмыть медогонку чистой колодезной водой, отец отдал её в наше распоряжение, мы же отдали её на управу всем деткам деревни Тимонихи. Особенно восторженно встретил такое отцово, следовательно, и моё распоряжение мой закадычный друг, сирота Доська Плетнёв. (Я изобразил его в одном из первых своих прозаических опытов, рассказец назывался «Калорийная булочка».)
Как назвать чувство, охватившее меня, когда я, запыхавшись, бегом прибежал к медогонке с Дось-кой? Гордость? Нет, это слово не годится. К тому же оно слишком близко к православному понятию «гордыня». Гордыней в этом смысле тогда и не пахло. Был восторг от того, что я стал причиной Доськиного восторга, была гордость за своих щедрых родителей (ведь в медогонке, если б отец не опрокинул её на бок, натекло бы ещё с полведра янтарного мёда). Порадовался тут не один Доська, лазали в чан сразу по двое, а пословица «кто опоздает, тот воду хлебает» была у ребятишек тут как тут. К вечеру нагрянули все детки и даже подростки. Увы, мёду на стенках чана уже не было. Прав да, медогонку маме всё равно пришлось мыть водой из колодца.
Моя любовь к литературе началась благодаря отцу Ивану Фёдоровичу через Григория Мелехова и Василия Тёркина. Правда, моё знакомство с Александром Трифоновичем Твардовским воз никло ещё до Великой Отечественной войны (ВОВ, как пишут ослабевшие от голода пенсионеры и сытые, но ленивые журналисты). Было мне тогда лет пять или шесть от роду… Я не умел даже читать. Слушать, однако, умел.
Поэт явился в нашей сосновой избе году в 1936-м, не раньше. Голос моего старшего брата Юрия навсегда запечатлел в моей памяти трубокура и балагура Ивушку, жилистого деда Данилу, который парился в бане «в потолок ноги». И ещё что-то смутное, волнующее о ловле рыбы решетом. Брат вслух читал журнал «Колхозник».
Настоящая литература — это когда читатель, слушатель знать не знает писателя, общаясь с героем, а не с автором. Счастливы при добротной литературе оба: и читатель, и автор, не ведающие друг о дружке! (Примерно в таком читательском состоянии бродил я по тайге вместе со старым Гольдом или слушал завиральные истории старого негра про братца Кролика.)
Вторая, уже осознанная встреча с Твардовским произошла во время войны. Моего отца отпустили на несколько дней домой после ранения. Помню, как он рассказывал нам про книгу «Тихий Дон», сожалея, что не успел дочитать её в госпитале. Тогда же рассказывал он и про Василия Тёркина.
У меня осталось чёткое ощущение: сами Шолохов и Твардовский стояли для отца как бы на втором, совершенно размытом плане, на первом же плане стояли очень близко, почти реально, Григорий Мелехов и Василий Тёркин.
Семью нашу, как миллионы иных семей, судьба «не обошла тридцатым годом, и сорок первым, и иным» — российская неласковая судьба! Уезжая на фронт во второй раз, отец, должно быть, чувствовал трагическую развязку своих предвоенных метаний между Москвой и Тимонихой. Но мог ли он предположить, что сложит голову именно на Смоленщине?