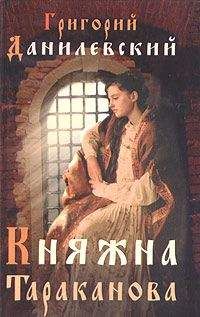Екатерине вспомнился в одном из писем Орлова намек о русском вояжире, а именно об Иване Шувалове, который в то время еще находился в чужих краях.
— С вами не наговоришься, — сказала, вставая, Екатерина, — ваша память тот же неоцененный архив; а русская история, не правда ли, как и сама Россия, любопытная и непочатая страна. Хороши наши нивы, беда только от множества сорных трав. Кстати… я все любуюсь вашими цветами и птицами. Приезжайте в Царицыно. Гримм мне прислал семью прехорошеньких какаду. Один все кричит: «Oui est verite?»[5]
Отменно милостиво поблагодарив Миллера, императрица возвратилась в Царицыно. Вскоре туда явился победитель при Чесме, Орлов.
Алексей Григорьевич не узнал двора. С новыми лицами были новые порядки. Граф не сразу удостоился видеть государыню. Ему сказали, что ее величество слегка недомогает.
Орлов смутился. Опытный в дворских нравах человек, он почуял немилость, беду. Надо было поправить дело. Алексей Григорьевич не без робости обратился к некоторым из приближенных и решился искать аудиенции у нового светила, Потемкина. Их свидание было вежливо, но не радушно. Далеко было до прежней дружеской близости и простоты. Проговорили за полночь, но гость чувствовал, что ему было сказано немного.
— Нынче все без меры, через край! — произнес, по поводу чего-то и мимоходом, Потемкин.
Задумался об этих словах Орлов: «Через край! Ведь и он хватил не в меру».
Наутро он был приглашен к государыне, которую застал за купаньем собачек. Мистер Том Андерсон уже был вынут из ванночки, вытерт и грелся, в чепчике, под одеялом. Миссис Мими, его супруга, еще находилась в ванне. Екатерина сидела, держа наготове другой чепчик и одеяло. Перекусихина, в переднике, с засученными за локти рукавами, усердно терла собачку губкой с мылом. Намоченная и вся белая от пены, Мими, завидя огромного, глазастого, не знакомого ей гостя, неистово разлаялась из-под руки камер-юнгферы.
— С воды и к воде, — шутливо произнесла Екатерина, — добро пожаловать. Сейчас будем готовы.
Одев в чепчик и уложив в постель Мими, государыня вытерла руки и произнесла:
— Как видите, о друзьях первая забота! — села и, указав Орлову стул, начала его расспрашивать о вояже, об Италии и о турецких делах.
— А вы, батюшка Алексей Григорьевич, пересолили, — сказала она, достав табакерку и медленно нюхая из нее.
— В чем, ваше величество?
— А в препорученном, — улыбнулась, шутливо грозя, Екатерина.
Орлов видел улыбку, но в самой шутке государыни приметил недобрую, знакомую ему черту: круглый и плотный подбородок Екатерины слегка вздрагивал.
— Что же, матушка государыня, чем я прогневил? — спросил он, заикаясь.
— Да как же, сударь… уж право, чересчур, — продолжала Екатерина, нюхая из полураскрытой табакерки.
Орлов ребячески растерялся. Его глаза трусливо забегали.
— Ведь пленница-то наша, — произнесла государыня, — слышали ли вы? Скоро сам-друг…
Богатырь и силач Орлов не знал, куда деться от замешательства.
«Пропал, окончательно погиб! — думал он, мысленно уже видя свое падение и позор. — Помяни, господи, царя Давида…»
— Дело, впрочем, можно еще поправить, — проговорила Екатерина, — вам бы ехать в Питер да свидеться с пленницей, к торжеству мира возвратились бы женихом.
Орлов, сморщившись, опустился на колено, поцеловал протянутую ему руку и молча вышел. За порогом он оправился.
— Ну, что, как государыня? Что изволила говорить? — спрашивали его ближние из придворных.
— Удостоен особого приглашения на торжество мира, — ответил граф, — еду пока в Петербург, устроить дела брата.
Алексей Григорьевич старался смотреть самоуверенно и гордо…
Орлов понял, что ему нечего было медлить, государыня, очевидно, не шутила.
Под предлогом свидания с удаленным братом, он собрался и вскоре выехал в Петербург.
Изнуренная долгим морским путем и заключением, пленница влачила в крепости тяжелые дни. Острый, с кровохарканьем и лихорадкой кашель перешел в быстротечную чахотку.
Частые появления и допросы фельдмаршала Голицына приводили княжну в неописанный гнев.
— Какое право имеют так поступать со мной? — повелительно спрашивала она. — Какой повод я подала к такому обращению?
— Предписание свыше, монарший приказ! — отвечал, пыхтя и перевирая французские слова, секретарь Ушаков.
В качестве письмоводителя наряженной комиссии, он заведовал особыми суммами, назначенными для этой цели, и потому, жалуясь на утомление, кучу дела и даже на боль в пояснице, с умыслом тянул справки, плодил новые доказательные статьи и переписку о ней и вообще водил за нос добряка Голицына, — собираясь на сбережения от содержания арестантки прикупить новый домик к бывшему у него на Гороховой собственному двору.
Таракановой, между прочим, были предъявлены найденные в ее бумагах подложные завещания.
— Что вы скажете о них? — спросил ее Голицын.
— Клянусь всемогущим богом и вечною мукой, — отвечала арестантка, — не я составляла эти несчастные бумаги, мне их сообщили.
— Но вы их собственноручно списали?
— Может быть, это меня занимало.
— Так вы не хотите признаваться, объявить истины?
— Мне не в чем признаваться. Я жила на свободе, никому не вредила: меня предали, схватили обманом.
Голицын терял терпение. «Вот бесом наделили! — мыслил он. — Открывай тайны с таким камнем!»
Князь вздыхал и почесывал себе переносицу.
— Да вы, ваше сиятельство, упомнили, — шепнул однажды при допросе услужливый Ушаков, — вам руки развязаны — последний-то указ… в нем говорится о высшей строгости, о розыске с пристрастием.
— Айв самом деле! — смекнул растерявшийся князь, вообще не охотник до крутых и жестоких мер. — Попробовать разве? Хуже не будет!
— Именем ее величества, — строго объявил фельдмаршал коменданту в присутствии пленницы, — ввиду ее запирательства — отобрать у нее все, кроме необходимой одежды и постели, слышите ли, все… книги, прочие там вещи, — а если и тут не одумается — держать ее на пище прочих арестантов.
Распоряжение князя было исполнено. Привыкшей к неге и роскоши, избалованной, хворой женщине стали носить черный хлеб, солдатские кашу и щи. Она, голодная, по часам просиживала над деревянною миской, не притрагиваясь к ней и обливаясь слезами. На пути в Россию, у берегов Голландии, где эскадра запасалась провизией, арестантка случайно узнала из попавшего к ней в каюту газетного листка все прошлое Орлова и с содроганием, с бешенством кляла себя за то, как могла она довериться такому человеку. Но явилось еще худшее горе. В комнатку арестантки, сменяясь по очереди, с некоторого времени день и ночь становились двое часовых. Это приводило арестантку в неистовство.
— Покайтесь, — убеждал, навещая ее, Голицын, — мне жаль вас, иначе вам не ждать помилования.
— Всякие мучения, самое смерть, господин фельдмаршал, все я приму, — ответила пленница, — но вы ошибаетесь… ничто не принудит меня отречься от моих показаний.
— Подумайте…
— Бог свидетель, мои страдания падут на головы мучителей.
— Одумается, ваше сиятельство! — шептал, роясь при этом в бумагах, Ушаков. — Еще опыт, и изволите увидеть…
Опыт был произведен. Он состоял в грубой сермяге, сменившей на плечах княжны ее ночной, венецианский шелковый пеньюар.
— Великий боже! Ты свидетель моих помыслов! — молилась арестантка. — Что мне делать, как быть? Я прежде слепо верила в свое прошлое; оно мне казалось таким обычным, я привыкла к нему, к мыслям о нем. Ни измена того изверга, ни арест не изменили моих убеждений. Их не поколеблет и эта страшная, железная, добивающая меня тюрьма. Смерть близится. Матерь божия, младенец Иисус! Кто подкрепит, вразумит и спасет меня… от этого ужаса, от этой тюрьмы?
В конце июня, в холодный и дождливый вечер, в Петропавловскую крепость подъехала наемная карета с опущенными занавесками. Из нее, у комендантского крыльца, вышел граф Алексей Григорьевич Орлов. Через полчаса он и обер-комендант крепости Андрей Гаврилович Чернышев направились в Алексеевский равелин.
— Плоха, — сказал по пути обер-комендант, — уж так-то плоха; особенно с этою сыростью; вчера, ваше сиятельство, молила дать ей собственную одежду и книги — уважили…
Часовых из комнаты княжны вызвали. Туда, без провожатых, вошел Орлов. Чернышев остался за дверью.
В вечернем полумраке граф с трудом разглядел невысокую, с двумя в углублении окнами, комнату. В рамах были темные железные решетки. У простенка, между двумя окнами, стояли два стула и небольшой стол, на столе лежали книги, кое-какие вещи и прикрытая полотенцем миска с нетронутою едой. Вправо была расположена ширма, за ширмою стояли столик с графином воды, стаканом и чашкой и под ситцевым пологом железная кровать.