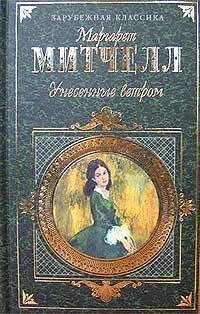Чуть больше блеска в глазах, тепла в улыбке, живости в мелодично-нежном голосе, звучавшем музыкой в ушах ее близких и слуг, и красота Эллин О'Хара была бы неотразимой. В напевности ее говора была протяжность гласных, характерная для жителей прибрежной Джорджии, и легкий французский акцент. Голос Эллин никогда не повышался до крика — отдавала ли она приказания слугам или пробирала за шалости детей, — но все обитатели Тары повиновались ему беспрекословно и мгновенно, преспокойно игнорируя громы и молнии, которые привык метать ее супруг.
И всегда, с тех пор как помнила себя Скарлетт, ее мать была такой — деятельной и невозмутимой среди всех ежедневных треволнений усадебной жизни; укоряла она или поощряла, голос ее был неизменно мягок и тих, спина пряма и дух несгибаем; она осталась такой даже после потери трех малюток-сыновей. Скарлетт ни разу не видела, чтобы мать, сидя в кресле, позволила себе откинуться на спинку. И руки у нее всегда были заняты рукодельем, если только она не сидела за обеденным столом, или за усадебными счетоводными книгами, или у постели больного. Иногда (в присутствии гостей) это могла быть изящная вышивка, в другой раз — просто рубашка Джералда или детское платьице, требующее починки. А не то, так она шила одежду для слуг. И шла ли она, шурша платьем, по дому, наблюдая за уборкой, заглядывала ли в кухню или в мастерскую, где шилась одежда для негров, занятых на полевых работах, на пальце у нее всегда блестел золотой наперсток, а по пятам за ней следовала девочка-негритянка, на которую была возложена обязанность носить за хозяйкой шкатулку розового дерева со швейными принадлежностями и выдергивать из готового шитья наметку.
Скарлетт никогда не видела, чтобы мать теряла самообладание или чтобы ее туалет, независимо от времени суток, не был в безупречном состоянии. Если Эллин О'Хара собиралась на бал, или в гости, или в Джонсборо для присутствия на сессии суда, ее туалет обычно занимал не менее двух часов и требовал услуг двух горничных и Мамушки, но если возникала необходимость действовать быстро, ее молниеносная готовность поражала всех.
Скарлетт в своей спальне, расположенной напротив материнской, с младенчества привыкла слышать на заре легкий торопливый топот босых ног по деревянному полу, тревожный стук в дверь к хозяйке, испуганные, приглушенные голоса, сообщавшие о начавшихся родах, или о чьей-то болезни, или смерти, приключившейся в одной из беленных известкой хижин. Не раз, подкравшись к своей двери, Скарлетт смотрела в щелку и видела, как мать, аккуратно причесанная, в застегнутом на все пуговицы платье, с медицинской сумкой в одной руке и высоко поднятой свечой в другой, появляется на пороге темной спальни, откуда доносится мерное похрапывание отца.
И на ее детскую душу сразу нисходило успокоение, когда она слышала сочувственный, но твердый шепот матери:
— Тише, не так громко. Вы разбудите мистера О'Хара. Никто не умрет, это не такая опасная болезнь.
Приятно было снова забраться в постель и уснуть, сознавая, что мать ушла туда, в ночь, и, значит, ничего страшного не случится.
А утром, не дождавшись помощи ни от старого доктора Фонтейна, ни от молодого, вызванных куда-то еще, и проведя у постели роженицы или у смертного одра всю ночь, Эллин О'Хара спускалась, как обычно, в столовую к завтраку. И если под глазами у нее залегли глубокие тени, то голос звучал бодро, как всегда, и ничто не выдавало пережитого напряжения. За величавой женственностью Эллин скрывалась стальная выдержка и воля, державшие в почтительном трепете весь дом — и не только слуг и дочерей, но и самого Джералда, хотя он даже под страхом смерти никогда бы в этом не признался.
Порой, перед отходом ко сну, Скарлетт, поднявшись на цыпочки, чтобы дотянуться до материнской щеки, смотрела на нежный рот Эллин, казавшийся таким беззащитным, на ее тонкую верхнюю губу и невольно спрашивала себя: неужели этот рот тоже когда-нибудь беспечно улыбался и в ночной тишине шепотом поверял свои девичьи секреты на ухо подружке? Это казалось невообразимым. Для Скарлетт Эллин всегда была такой, как сейчас, — сильной, мудрой опорой для всех, единственным человеком на свете, знающим ответ на все вопросы.
Но, конечно, Скарлетт была не права. Эллин Робийяр из Саванны умела беззаботно улыбаться и заливаться беспричинным смехом, как любая пятнадцатилетняя девчонка этого живописного городка на берегу Атлантики, и, как все девчонки, поверяла по ночам свои секреты подружкам — все секреты, кроме одного. Так было вплоть до того дня, когда некий Джералд О'Хара, двадцатью восемью годами старше Эллин, не вошел в ее жизнь. И случилось это в тот самый год, когда Филипп Робийяр, ее беспутный черноглазый кузен с дерзким взглядом и отчаянными повадками, навсегда покинул город и унес с собой весь молодой жар ее сердца, оставив маленькому кривоногому коротышке ирландцу только восхитительно женственную оболочку.
Но Джералду, который, женившись на Эллин, не помнил себя от счастья, и этого было довольно. И если какая-то частица ее души была мертва для него, он никогда от этого не страдал. Джералд был достаточно умен, чтобы понимать: если он, небогатый ирландец, без роду, без племени, взял в жены девушку из самого богатого и родовитого семейства на всем побережье, — это почти что равносильно чуду. Ведь он был никто, человек, выбившийся из низов.
Джералд О'Хара эмигрировал из Ирландии в Америку, когда ему едва исполнился двадцать один год. Отъезд был скоропалительным, как случалось не раз и с другими добрыми ирландцами и до него и после. Он уехал без багажа, с двумя шиллингами в кармане, оставшимися после оплаты проезда, и крупной суммой, в которую была оценена его голова, — более крупной, на его взгляд, чем совершенное им нарушение закона. Ни один оранжист, еще не отправленный в ад, не стоил в глазах британского правительства, да и самого сатаны, ста фунтов стерлингов, но если тем не менее правительство приняло так близко к сердцу смерть земельного агента какого-то английского помещика, давно покинувшего свое поместье, это значило, что Джералду О'Хара надлежало бежать, и притом побыстрее. Правда, он обозвал земельного агента «оранжистским ублюдком», но это, по мнению Джералда, еще не давало тому права оскорбительно насвистывать ему в лицо «Воды Война».
Битва на реке Войн произошла более ста лет тому назад, но для всех О'Хара и любого из их соседей этого промежутка времени как бы не существовало, словно только вчера их мечты и надежды, вместе с их землями и состоянием, были развеяны по ветру в облаках пыли, поднятых копытами коня трусливого Стюарта, бежавшего с поля боя, оставив своих ирландских приверженцев на расправу Вилли Оранскому и его оголтелым наемникам с оранжевыми кокардами.
По этой и многим другим причинам семья Джералда не почла нужным рассматривать трагический исход вышеупомянутой ссоры как нечто заслуживающее серьезного внимания — помимо, разумеется, того, что он мог повлечь за собой серьезные последствия для них. На протяжении многих лет семья О'Хара, подозреваемая в тайных антиправительственных действиях, была на дурном счету у английских констеблей, и Джералд был не первым О'Хара, спешно покинувшим родину под покровом предрассветных сумерек. Он смутно помнил своих двух старших братьев Джеймса и Эндрю, молчаливых юношей, порой неожиданно появлявшихся ночью с какими-то таинственными поручениями, порой исчезавших на целые недели — к неизбывной тревоге матери — и сбежавших в Америку много лет назад, после того как на скотном дворе О'Хара под полом хлева был обнаружен небольшой склад огнестрельного оружия. Теперь оба они стали преуспевающими торговцами в Саванне («Одному господу известно, что это за город такой», — со вздохом говаривала их мать, вспоминая своих старших отпрысков мужского пола), и молодого Джералда отослали к ним.
Мать наскоро поцеловала его в щеку, жарко прошептав на ухо слова католической молитвы, отец же напутствовал его так: «Помни, из какой ты семьи, и не позволяй никому задирать перед тобой нос». И с этим Джералд покинул родной кров. Пятеро высоченных братцев одарили его на прощанье одобрительно-покровительственными улыбками, ибо он был в их глазах еще ребенком, да к тому же единственным недомерком в этом племени рослых здоровяков.
Отец и все пять братьев были крепкого сложения и более шести футов росту, а коротышка Джералд в двадцать один год уже знал, что господь бог в своей неизреченной мудрости отпустил ему всего пять футов и четыре с половиной дюйма в длину. Но Джералд никогда не позволял себе на это сетовать и — такой уж у него был характер — отнюдь не считал, что низкий рост может быть для него в чем-либо помехой. Скорее даже особенности телосложения и сделали его тем, чем он стал, ибо еще на пороге жизни он познал одну истину: маленький человек должен быть крепок, чтобы выжить среди больших. И в этом качестве Джералду отказать было нельзя.