Он погиб, попав зимой под тракторные сани, похоронен у нашей Никольской церкви.
Церковь все так же белеет на зеленом бугре. Когда-то в ней была начальная школа, я ж ходил сюда в первый класс. Нас было так много тогда! Теперь зимний придел изломан, сломана и высокая колокольня. Школа находится в деревне Алферовской, напротив, и учится в ней всего шесть маленьких мальчиков. Грохочущий ДТ-54 зачем-то въезжает в церковь. Из озорства, что ли? А может быть, там склад какой? Пока я поднимаюсь на бугор, трактор ушел. Никакого склада в церкви не было. Гулкий храм, с вывороченными балками, с метровыми стенами, встречает меня отрешенной тишиной.
Белые когда-то стены облупились. И с высоты кое-где глядят на меня загадочные, едва угадываемые лики. Кто же писал эти фрески? Кто возводил эти мощные стены, выводил под небо широкий купол, что и как думали эти строители?
Рядом — зеленое, обнесенное заборчиком кладбище. Наверное, надо почтить память умерших. Вот где-то здесь лежит бабка Фоминишна. Бабка Наталья, Ермошиха, божатка Евдоша… Кладбище-то, по сути дела, женское, здесь почти нет моих предков-мужчин, о чем я уже писал в какой-то из своих книг.
Я долго сижу на могиле Васи Дворцова, смотрю на синее озеро, на эти родимые реденькие дома, бани и изгороди. Они поглощают горечь моих печальных встреч, я возвращаюсь домой и, не зная что делать, иду на Лесное озеро. Поле до самых болотистых подозерок цветет синим, желтым, розовым и белым. Солнце шпарит немилосердно, и в воздухе стоит гуд миллиона насекомых. В чистом омуте купается пожилая супружеская чета, они оба голые, стыдиться им некого. По очереди, старательно трут спины друг дружке, окунаются, смывая с себя сенокосный пот, и оводы, наверно, гудят над ними. Кто это? Ладно, узнаю потом, когда оденутся.
В болоте оводов и мух еще больше. Запах влажной растительности до того силен, что кажется почти осязаемым. Все растет, прет из земли сломя голову.
Выхожу к реке, к зимнему выезду. Это сюда Фауст Степанович Цветков, купивший в Тимонихе дом старика Барова, выгоняет лодку. Вчера он рассказывал мне, где спрятано весло, где висят мережки. Осиновая долбленая лодка, которая погубила ребят, еле выдерживает одного человека. Она вертится, идет не туда, я долго приноравливаюсь к ней, пока она не начинает слушаться. Речка здесь узкая, особенно летом, вся завалена упавшими деревьями, забита тычами, перегорожена заездками, и ехать очень трудно. Оводы шпарят без пощады, мухи лезут в рот, и в уши, и в нос. Это меня, рыбака. А каково же сейчас коровам и лошадям на поле, в лесу? Уму непостижимо, сколько у нас этой кровожадной твари! Оводы желтые, полосатые, чуть не с воробьишку, укус их подобен уколу для прививки. Оводы поменьше, почти как пчелиные трутни, некоторые из них совсем зеленые от цветочной пыли — только что родились, — донимают своей многочисленностью и жалят тоже до крови. Тучами летают слепни, мелкие серые — третий сорт, как говаривал Аркадий Щеглев. Комарье всех сортов гудит и ночью, и днем. Лесные и полевые мухи — эти кровь не сосут, зато лезут, особенно потному человеку, прямо в глаза, назойливые и неутомимые. Мошка, мелкая, с булавочную головку, с серыми крохотными крылышками, га больше по ночам сосет кровь, но от нее тело только зудит, боли не ощущается. Наконец, клещи, разносчики энцефалита, по-нашему — кукушкины вошки. И все лезут, все хотят жрать, и некуда от них деться, особенно коровам и лошадям.
Я со злобой бью по ноге. В руке целая горсть оводов, ладонь в крови, один все же успел напиться, но тут же налетает еще больше. Черт, сколько этих заездков, ехать быстрее нельзя. Заездок — это самый древний и примитивный способ рыболовства. В узком месте река перегораживается кольями и досками, в окно ставится верша, и рыбе идти некуда, кроме этой верши. Речка течет из большого Лесного в малое озеро, озера эти разные по происхождению и глубине. В Лесном озере дно илистое, пятиметровая жердь легко уходит в этот ил. Когда зимой намерзает слой льда и доходит до самого дна, рыба задыхается, кидается в речку, чтобы пройти в то, более глубокое озеро, а тут ее и хватают за жабры. И вот периодически рыба в Лесном озере гибнет, нынешняя зима именно такая. Фауст Степанович Цветков рассказывал, что из-за этих заездков рыба не вышла из озера и вся подохла, на лывах валялись щуки, как поленья, хоть лопатой греби, многие тонны дохлых окуней и сорог склевали птицы.
Однако озеро очень рыбное, пройдет два-три года, и рыба опять расплодится, уже сейчас кишмя кишат в устье тысячи юрких мальков.
Я выезжаю на середину озера и наконец вижу, как редеет стая кровососов-оводов. Здесь на воде прохладнее, дышится легче, кругом одна вода. Выкидываю две мережки, стучу веслом. Десятка два хороших окуней цепляются в ячейках, а мне и не надо больше, еду в Бычьянский берег. Вдалеке звучно ныряют в воду гагары, озеро нестерпимо блестит на солнышке. Оно то золотисто-стальное, то густо-синее, то почти белое, в зависимости от силы ветерка. Вон там, около глуби, играет большая ятва сороги: рыба идет почти поверху и вода над ней не рябая. На середине озера, сколько ни греби, все кажется, что не двигаешься с места. Но берег все же подвигается, вот уже видать высокие хвощи — наступающие на глубь разведчики суши. Озеро быстро зарастает. Сначала идут хвощи, вслед за ними ряска и мох, по мху трава и лыва заволакивает озеро. Внизу под лывой еще гуляют рыбы, а вверху уже растет ивняк и вьют гнезда голенастые журавли. Северный берег интересен тем, что там твердое дно, вода подмывает сосны, ели, подсад жимолости и вереска. Эти обнаженные и высохшие корни — зрелище удивительное. Как будто какой-то лесной скульптор-волшебник ходил по этим берегам и творил свои нездешние образы. Фантазия его была свободна и не ограничивалась ничем, он делал эти скульптуры легко и непринужденно, словно из озорства. Ну и наделал не поймешь чего: уродливо-непонятных птиц-змей, таинственных, каких-то деформированных балерин, спортсменов, зверей. Везде абстрактные заготовки и смещенные, разъятые и перемешанные детали каких-то удивительных, но не законченных образов. Я вырезаю с десяток этих причудливых корней и под отрешенные шлепки воды о лодку долго кручу их и переставляю, стараясь уловить смысл, но образы ускользают, и я бросаю корни в корму…
Кругом остро блестит вода. Тихо, жарко. Лодка крадется вдоль берега. Помнится, здесь, в лесу, между бронзовых стволов болотных сосенок я видел сказочную избушку, срубленную покойным Николаем Андреевичем. Двухскатная крыша, окошечко, углы и мох в пазах — все было настоящее и крохотное, точь-в-точь как в сказке. Сейчас ее нет здесь. Бревна по воде сплавили в деревню. Но в этом болоте, среди бронзовых сосенок все как-то по-прежнему сказочно. Кажется, что сейчас выйдет ко мне согбенная баба-яга, прошамкает заклинанья, и лес оживет и расступится: ухнет и захохочет кашлюн-водяной, голоса болотных кикимор заглушат его кашель, запоет в воздухе чья-то стрела либо тяжко протопает белый богатырский конь.
Но все тихо, только глухо рокочут верхи сосен. Вокруг синеет голубика, пеньки слезятся смолой.
И снова в душе роятся воспоминания, и никуда не уйти мне от самого себя, никакая природа не заглушит тревогу, и, наверное, природа вообще не глушит тревогу, а только углубляет и расширяет в сердце область этой тревоги, этой неудовлетворенности.
Здесь в лесу опять так явственна горечь моих встреч с родиной, так ярки всплывшие в памяти образы, так щемящи воспоминания.
В детстве мы срубили с Доськой Плетневым почти такую же избушку, какая была здесь. Она стояла в поскотине, за Вахрунихой, где Доська пас коров, зарабатывая свой недетский хлеб.
Ах, Доська, Доська…
Ты всегда был жестче меня, суровее, что ли, всегда я завидовал тебе, всегда не хватало мне твоей беззаботности и веселого недетского мужества. Помнишь, как мы пилили твою клетину? Изба у вас была громадная, с широкими лавками и полавошником. На стенах ничего не было, да и во всей избе — ничего не было, был один котелок да две ложки. Помню, моя мать отдала тебе мою холщовую сумку, чтобы ходить в школу. В сумке ты носил задачник и хрестоматию, которая начиналась со стихов о купающемся пионерском отряде.
Люди говорят:
Купается отряд…
Но сумка эта служила тебе больше не для книжек… Твой брат Панко был ленивей тебя, он редко ходил за милостыней, и ваша мать Вера, может, пожила бы подольше, если б он тоже ходил по деревням. Я помню, как она умерла от голода. Это было, кажется, еще в сорок втором. В вашей избе разломали перегородку и из этих досок сделали ей гроб. Панко уехал в ремесленное. Ты пас летом коров, а зимой жил у Дворцовых. Коров ты пас удивительно. Я дивился тому, как ты, приложив ухо к земле, мог определить, в какую сторону ушло стадо. Еще я помню, как зимой, в школе, ты сочинил стихи про Граньку Короткову. Гранька унесла в подоле из гумна несколько фунтов непровеянного зерна, и когда ее поймал председатель, удавилась от стыда. Дело было в какой-то праздник, в стихах говорилось сперва об этом празднике. Но я запомнил только две твои последние строчки:

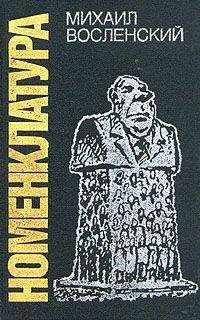
![Хол Клемент - Огненный цикл [ Экспедиция "Тяготение". У критической точки. Огненный цикл]](https://cdn.my-library.info/books/68644/68644.jpg)

