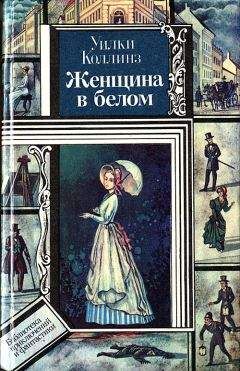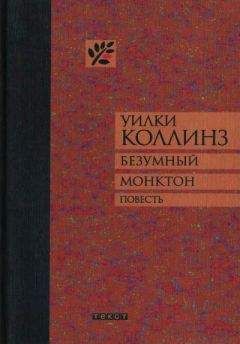Очевидно, она была всецело поглощена мыслями о сестре. Она рассеянно отвечала:
— Владелец большого поместья в Хемпшире.
Хемпшир… где родилась Анна Катерик. Снова женщина в белом. В этом было что-то роковое.
— А его имя? — спросил я как можно равнодушнее и спокойнее.
— Сэр Персиваль Глайд.
Сэр… сэр Персиваль. Вопрос Анны Катерик про баронетов, с которым я мог быть знаком, снова припомнился мне. Я внезапно остановился и посмотрел на мисс Голкомб.
— Сэр Персиваль Глайд, — повторила она, думая, что я не расслышал.
— Он баронет? — спросил я с нескрываемым волнением.
Она помедлила, а потом довольно холодно ответила:
— Баронет, конечно.
XI
На обратном пути домой мы не сказали больше ни слова. Мисс Голкомб поспешила подняться к сестре. Я вернулся в свою студию, чтобы привести в порядок, прежде чем передать их в другие руки, те рисунки мистера Фэрли, которые я еще не успел реставрировать и окантовать. Когда я остался один, на меня лавиной нахлынули мысли, которые я отгонял раньше, мысли, которые делали мое положение еще более тягостным.
Она выходила замуж. Ее мужем будет сэр Персиваль Глайд. Человек с титулом баронета и владелец поместья в Хемпшире.
В Англии были сотни баронетов и десятки владельцев поместий в Хемпшире. Судя по всему, пока что у меня не было ни малейших оснований подозревать, что слова женщины в белом имели отношение к сэру Персивалю Глайду. И все же я почувствовал, что они относились именно к нему. Потому ли, что теперь я знал, что он имеет отношение к мисс Фэрли, а та, в свою очередь к Анне Катерик, с той самой ночи, когда я убедился в их сходстве? Потому ли, что утренние события взволновали меня и я был весь во власти воображаемых страхов из-за простых совпадений, простых случайностей? Но разговор с мисс Голкомб на обратном пути из летнего домика оказал на меня странное влияние. Предчувствие какой-то страшной опасности, подстерегавшей нас в неизвестном будущем, овладело мной целиком. Я почувствовал, что теперь я — одно из звеньев той цепи событий, разорвать которую не сможет даже мой отъезд из Кумберленда. Мучительные мысли о том, к чему все это приведет, чем все это кончится, все более омрачали мою душу. Каким бы горьким ни было мое страдание из-за несчастного конца моей дерзкой любви, оно было притуплено и приглушено еще более сильным страданием: предчувствием, что со временем с нами неминуемо случится нечто совершенно непредвиденное и грозное…
Я работал уже около получаса, когда в мою дверь постучали. На мой вопрос: «Кто там?» — дверь открылась, и, к моему удивлению, в комнату вошла мисс Голкомб.
Она была чем-то разгневана и взволнована. Прежде чем я успел предложить ей сесть, она схватила стул и опустилась на него подле меня.
— Мистер Хартрайт, — сказала она, — мне казалось, что всякие неприятные разговоры уже окончены, по крайней мере на сегодня. Но это не так. Кто-то затеял гадкую интригу с целью испугать мою сестру и помешать ее замужеству. Вы видели, что я велела садовнику отнести в дом письмо, адресованное мисс Фэрли?
— Конечно.
— Это анонимное письмо, гнусная попытка опорочить сэра Персиваля Глайда в глазах моей сестры. Оно испугало и встревожило ее, и мне с трудом удалось ее успокоить, прежде чем я смогла оставить ее одну и прийти сюда. Я знаю, что не имею права советоваться с вами о наших семейных делах, они не могут представлять для вас интереса…
— Простите меня, мисс Голкомб, я чувствую живейший интерес ко всему, что касается мисс Фэрли или вас.
— Я рада, что вы это сказали. Вы единственный человек в доме, да и вне дома, с которым я могу посоветоваться. Мистер Фэрли так носится со своими нервами и приходит в такой ужас при малейшей мысли о каких-нибудь затруднениях, что обращаться к нему нет никакого смысла. Наш священник — хороший, но слабохарактерный человек, он способен заниматься только делами своего прихода, а наши соседи — просто равнодушные знакомые, которых никак нельзя беспокоить в минуты треволнений и опасностей. Посоветуйте: следует ли мне предпринимать немедленные шаги к выяснению, кто автор этого письма, или подождать до завтра и обратиться к поверенному мистера Фэрли? Стоит ли терять целый день или нет? Это очень важно. Как вы думаете, мистер Хартрайт? Если бы необходимость не заставила меня в разговоре с вами упомянуть о некоторых обстоятельствах, конечно, можно было бы считать непростительным, что сейчас я обращаюсь именно к вам. Но после всего, что было между нами сегодня, право, я могу не принимать во внимание, что мы с вами знакомы всего три месяца.
Она подала мне письмо. Оно начиналось сразу без обращения, вот так:
«Верите ли вы в сны? Я надеюсь, что да, ради вас самих. Посмотрите, что говорится о снах в священном писании, и выслушайте предостережение, пока еще не поздно.
Прошлой ночью я видела сон о вас, мисс Фэрли. Мне снилось, что я стою в церкви. Я — по одну сторону аналоя, а священник с молитвенником в руках — по другую.
Через некоторое время в церковь вошли двое — мужчина и женщина, чтобы сочетаться браком. Той женщиной были вы. В чудесном белом атласном платье, в длинной белой прозрачной фате, вы выглядели такой красивой и невинной, что сердце замерло во мне и глаза мои наполнились слезами.
Слезы эти были благословенными слезами жалости, моя молодая леди, и, вместо того чтобы литься из моих глаз, как текут слезы у всех нас, они превратились в два светлых луча, которые все дальше и дальше устремлялись от меня к мужчине, стоявшему с вами перед аналоем, пока не коснулись его груди. Два луча, как две светлые радуги, протянулись между ним и мной. Я посмотрела, куда они указывали, и заглянула в самую глубину его сердца.
Внешность мужчины, за которого вы выходили замуж, была весьма приятной. Он был не высок и не низок — чуть ниже среднего роста. Оживленный, веселый, довольный, лет сорока пяти. У него было бледное лицо и облысевший лоб, у него были темные волосы и красивые каштановые бакенбарды. Глаза карие и очень блестящие; нос такой прямой, красивый и тонкий, что подошел бы и женщине. И руки тоже. Время от времени его беспокоил сухой, отрывистый кашель, и, когда он прикрывал рот рукой, на ней виднелся багровый рубец от старой раны. Такой ли он, как снился мне? Вам лучше знать, мисс Фэрли, вы сами знаете — ошиблась я или нет. Читайте дальше. Узнайте, что я увидела под его внешней оболочкой, — заклинаю вас, читайте себе на пользу.
Я посмотрела туда, куда шли лучи, и заглянула в самое его сердце. Оно было черным, как ночь, и на нем было написано пылающими, огненными буквами рукою падшего ангела: «Без сострадания и без раскаяния. Он сеял горести на пути других и будет жить, сея горести на пути той, что стоит подле него». Я прочитала это, и тогда лучи переместились и устремились за его плечо: за ним стоял дьявол и смеялся. И лучи переместились вновь и устремились за ваше плечо: за вами стоял ангел и плакал. И в третий раз переместились лучи и легли между вами и этим человеком. Они ширились и ширились, оттесняя вас друг от друга. И священник напрасно искал венчальную молитву — она исчезла из книги, и он перестал листать книгу и закрыл ее, отчаявшись. А я проснулась в слезах, и сердце мое разрывалось от горя, ибо я верю в сны.
Верьте тоже, мисс Фэрли, молю вас, ради вас самих, верьте, верьте, как я. Иосиф и Даниил и другие в священном писании верили в сны.
Разузнайте о прошлом этого человека с рубцом на руке, прежде чем произнести слова, которые сделают вас его несчастной женой. Я предупреждаю вас не ради себя, но ради вас. Забота о вашем благополучии будет жить во мне до последнего моего дыхания. Дочь вашей матери в сердце моем, ибо мать ваша была моим первым, лучшим, моим единственным другом».
На этом без всякой подписи это удивительное письмо заканчивалось. Оно было написано довольно неразборчиво на линованной бумаге, усеянной кляксами. Почерк был несколько слаб и неясен, но ничем особым не отличался.
— Это письмо не безграмотное, — сказала мисс Голкомб, — и в то же время, оно, конечно, слишком несвязное, чтобы предположить, что его писал образованный человек из высшего круга. Описание подвенечного платья и фаты и некоторые другие выражения говорят о том, что его писала женщина. Как по-вашему, мистер Хартрайт?
— Я тоже так думаю. Не только женщина, но женщина, чей рассудок, должно быть…
— …расстроен? — подсказала мисс Голкомб. — Мне тоже так показалось.
Я не отвечал. Глаза мои были прикованы к последней фразе письма. «Дочь вашей матери в сердце моем, ибо мать ваша была моим первым, лучшим, моим единственным другом». Эти слова и мои сомнения в здравом смысле пишущего подсказывали мне предположение, о котором я боялся подумать, не то чтобы высказать его вслух. Я начинал опасаться за собственный рассудок. Не было ли это просто навязчивой мыслью — во всем непонятном находить следы одного и того же зловещего влияния, угадывать один и тот же скрытый источник. На этот раз я решил не поддаваться искушению и не высказывать никаких предвзятых предположений и догадок.