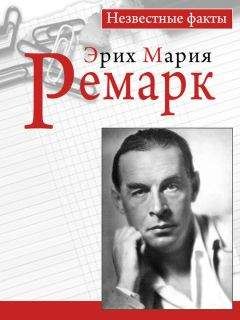— Сам верну завтра утром. Разбудите меня в половине восьмого. Только стучите тихо. Я услышу… Спокойной ночи.
— Видите, — обратился Равик к Жоан, показывая пижаму. — Костюм для Деда-Мороза. Ваш портье волшебник. Сейчас облачусь в эту штуку. Не надо бояться быть смешным. Впрочем, для этого требуется не только мужество, но и известная непринужденность.
Он постелил себе на шезлонге. Ему было безразлично, где спать — в своем отеле или здесь. В коридоре он обнаружил сносную ванную, а портье дал ему новую зубную щетку. Все остальное было не важно. Жоан была для него чем-то вроде пациентки.
Он налил полный стакан коньяку и вместе с рюмкой поставил у кровати.
— Надеюсь, вам этого хватит, — сказал он. — Так проще. Мне не придется вставать и наливать вам снова и снова. Бутылку и другую рюмку забираю себе.
— Рюмка мне не нужна. Могу пить из стакана.
— Тем лучше.
Равик улегся на шезлонге. Ему понравилось, что женщина перестала опекать его. Она добилась своего и теперь, слава Богу, не обременяла его чрезмерными проявлениями гостеприимства.
Он налил себе полную рюмку и поставил бутылку на пол.
— Салют!
— Салют! Благодарю вас.
— Все в порядке. Меня и так не очень-то тянуло под дождь.
— Он еще не кончился?
— Нет.
Сквозь тишину с улицы доносился тихий стук, словно в комнату пыталось пробраться нечто серое, безутешное, бесформенное, нечто более печальное, чем сама печаль… Какое-то далекое, безликое воспоминание, бесконечная волна, которая, прихлынув, хочет отнять и похоронить то, что когда-то выплеснула на маленький остров и забыла на нем, — крупицу человека, света, мысли.
— В такую ночь хорошо пить.
— Да. И плохо быть одному.
Равик немного помолчал.
— К этому всем нам пришлось привыкать, — сказал он затем. — То, что некогда связывало нас, теперь разрушено. Мы рассыпались, как стеклянные бусы с порвавшейся нитки. Ничто уже не прочно. — Он снова наполнил рюмку. — Мальчиком однажды ночью я спал на лугу. Было лето, на небе ни облачка. Перед тем как заснуть, я смотрел на Орион, он висел далеко на горизонте, над лесом. Потом среди ночи я проснулся и вдруг вижу — Орион прямо надо мной. Я запомнил это на всю жизнь. В школе я учил, что Земля — планета и вращается вокруг своей оси, но воспринял это отвлеченно, как-то по-книжному, никогда над этим не задумываясь. А тут я впервые ощутил, что это действительно так. Почувствовал, как Земля бесшумно летит в неимоверно огромном пространстве. Я почувствовал это с такой силой, что вцепился в траву, боялся — снесет. Видимо, это произошло потому, что, очнувшись от глубокого сна, на мгновение покинутый памятью и привычкой, я увидел перед собой громадное, сместившееся небо. Внезапно земля оказалась для меня недостаточно надежной… С тех пор она такой и осталась.
Он выпил свою рюмку.
— Это кое-что усложняет, но многое и облегчает. — Он посмотрел в сторону Жоан Маду. — Вы, вероятно, уже совсем спите. Если устали, не отвечайте.
— Еще не сплю. Но скоро засну. Какая-то часть во мне бодрствует. Она холодна и никак не заснет.
Равик поставил бутылку на пол. Тепло комнаты бурой усталостью просачивалось в него. Набегали тени. Взмахи крыльев. Чужая комната. Ночь… А на улице, как далекая барабанная дробь, монотонный стук дождя… слабо освещенная хижина на краю хаоса, крохотный огонек, бессмысленно мерцающий в пустыне, чье-то лицо, глядя в которое говоришь и говоришь…
— А вы это когда-нибудь чувствовали? — спросил он.
Она помолчала.
— Да. Только не так. По-другому. Когда я целыми днями ни с кем не разговаривала и бродила по ночам, и кругом были люди, и они чем-то занимались и куда-то шли, и у них был свой дом… Только у меня ничего… Тогда все постепенно становилось нереальным… будто я утонула и бреду под водой по чужому городу…
Кто-то поднялся по лестнице. Щелкнул замок, хлопнула дверь. Сразу же глухо загудел водопровод.
— Зачем оставаться в Париже, если у вас тут никого нет? — спросил Равик, почти засыпая.
— Не знаю. А куда мне деваться?
— Вам некуда вернуться?
— Нет. Возврата нет ни для кого. Никуда.
Порыв ветра швырнул тяжелые струи в стекло.
— Зачем же вы приехали в Париж? — спросил Равик.
Жоан ответила не сразу. Он решил, что она уже заснула.
— Рачинский приехал со мной в Париж, потому что мы хотели расстаться, — сказала она наконец.
Равик не удивился ответу. Есть часы, когда не удивляешься ничему. Человека, вернувшегося в номер напротив, начало рвать. Сквозь дверь доносились приглушенные стоны.
— С чего же было так отчаиваться? — спросил Равик.
— Потому что он умер! Умер! Был — и вдруг не стало! Не вернуть! Никогда! Умер! Уже никогда ничего не сделать!.. Неужели вы не понимаете? — Жоан приподнялась на локте, пристально всматриваясь в Равика.
Потому что он ушел прежде, чем ты смогла уйти от него, подумал Равик, потому что он оставил тебя одну прежде, чем ты была к этому подготовлена.
— Я… я должна была относиться к нему иначе… я была…
— Забудьте об этом. Раскаяние — самая бесполезная вещь на свете. Вернуть ничего нельзя. Ничего нельзя исправить. Иначе все мы были бы святыми. Жизнь не имела в виду сделать нас совершенными. Тому, кто совершенен, место в музее.
Жоан ничего не ответила. Равик увидел, что она отпила глоток и снова откинулась на подушку. Было что-то еще… но он слишком устал, чтобы думать. Впрочем, ему все было безразлично. Хотелось спать.
Утром предстояла операция. Остальное его не касалось. Он поставил пустую рюмку на пол, рядом с бутылкой. Странно, где только иной раз не приземлишься, подумал он.
Когда Равик вошел, Люсьенна Мартинэ сидела у окна.
— Ну что? — спросил он. — Каково первый раз встать с постели?
Девушка посмотрела на него, потом в окно — на серый пасмурный день — и снова на него.
— Плохая погода, — сказал он.
— Нет, — ответила она. — Для меня хорошая.
— Почему?
— Потому что не надо выходить на улицу.
Она сидела в кресле, съежившись, накинув на плечи дешевенькое ситцевое кимоно, — щуплое, неказистое существо с плохими зубами, но для Равика она была в этот момент прекраснее Елены Троянской, кусочком жизни, спасенной его руками. Правда, гордиться особенно было нечем — ведь другую он совсем недавно потерял. Следующую он, наверно, тоже потеряет, в конце концов он потеряет их всех и самого себя. Но эта пока была спасена.
— Мало радости разносить шляпки в такую погоду, — сказала Люсьенна.
— А вы разносили шляпки?
— Да. Я работала у мадам Ланвер. Ателье на авеню Матиньон. Мы работали до пяти. А потом надо было разносить заказчицам картонки. Сейчас половина шестого. Самое время бегать со шляпками. — Она посмотрела в окно. — Жаль, дождь перестал. Вчера было лучше. Весь день лило как из ведра. А теперь кому-нибудь другому приходится бегать.
Равик сел против нее на подоконник. Странно, подумал он. Всегда ждешь, что человек, избежав смерти, будет безмерно счастлив. Но так почти никогда не бывает. Вот и Люсьенна. Свершилось маленькое чудо, а ей только и радости, что не надо выходить под дождь.
— Почему вы выбрали именно эту клинику, Люсьенна? — спросил он.
Она настороженно взглянула на него.
— Мне говорили о ней.
— Кто?
— Знакомая.
— Как ее зовут?
Девушка помедлила.
— Она тоже была здесь. Я проводила ее сюда, до самых дверей. Потому и знала адрес.
— Когда это было?
— За неделю до того, как пришла сама.
— Это та, что умерла во время операции?
— Да.
— И все-таки вы пришли сюда?
— Да, — равнодушно ответила Люсьенна. — А почему бы и нет?
Равик не сказал того, что хотел сказать. Он посмотрел на маленькое холодное лицо. Когда-то оно было нежным. Как быстро жизнь ожесточила его.
— Вы были у той же акушерки? — спросил он. Люсьенна молчала.
— Или у того же врача? Можете мне спокойно сказать. Я ведь не знаю, кто они.
— Сначала у нее была Мари. За неделю до меня. За десять дней.
— А потом пошли вы, хотя знали, что случилось с Мари?
Люсьенна пожала плечами.
— А что мне оставалось? Пришлось рискнуть. Никого другого я не знала. Ребенок… Куда мне с ребенком?
Она смотрела в окно. На балконе напротив стоял мужчина в подтяжках. Он держал над собой раскрытый зонтик.
— Сколько мне еще лежать здесь, доктор?
— Около двух недель.
— Целых две недели?
— Это не так уж долго. А что?
— Где же взять такие деньги?
— Может быть, вас удастся выписать немного раньше.
— Вы думаете, я смогу расплатиться? У меня нет таких денег. Очень уж дорого — тридцать франков в сутки.
— Кто вам сказал?
— Сестра.
— Какая? Конечно, Эжени…
— Да. Она сказала, что за операцию и бинты придется платить отдельно. Это дорого?