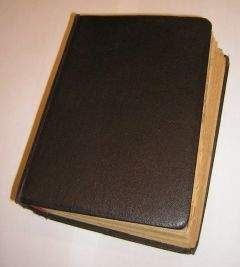Керосиновая лампа с прикрученным фитилем, стоявшая в окошечке над дверью в решетчатом фонаре, давала тусклый свет, и майор с трудом отыскал проснувшегося Швейка. Последний, стоя навытяжку у своих нар, терпеливо выжидал, чем, собственно говоря, окончится этот визит.
Швейк решил, что самым правильным будет представиться господину майору, и поэтому энергично отрапортовал:
— Осмелюсь доложить, господин майор, арестованный один, других происшествий не было.
Майор вдруг забыл, зачем он пришел сюда, и поэтому сказал:
— Ruht! Где у тебя этот арестованный?
— Это, осмелюсь доложить, я сам, — с гордостью ответил Швейк.
Майор, однако, не обратил внимания на этот ответ, ибо генеральское вино и ликеры вызвали в его мозгу последнюю алкогольную реакцию. Он зевнул так страшно, что любой штатский вывихнул бы себе при этом челюсть. У майора же этот зевок направил мышление по тем мозговым извилинам, где у человека хранится дар пения. Он непринужденно повалился на тюфяк, лежавший на нарах у Швейка, и завопил так, как перед своим концом визжит недорезанный поросенок:
Oh, Tannenbaum! Oh, Tannenbaum,
wie schön sind deine Blätter!511
Он повторял эту фразу несколько раз подряд, обогащая мелодию нечленораздельными повизгиваниями. Потом перевалился, как медвежонок, на спину, свернулся клубочком и тут же захрапел.
— Господин майор, — будил его Швейк, — осмелюсь доложить, вы наберетесь вшей!
Но это было совершенно бесполезно. Майор спал мертвым сном.
Швейк нежно посмотрел на него и сказал:
— Ну, тогда спи, бай-бай, ты, пьянчуга, — и прикрыл его шинелью. Потом сам забрался под шинель. Утром их нашли тесно прижавшимися друг к другу.
К девяти часам, в самый разгар поисков исчезнувшего майора, Швейк слез с нар и счел нужным разбудить господина начальника. Он стащил с него русскую шинель и весьма энергично принялся трясти, пока наконец майор не уселся на нарах. Он тупо глядел на Швейка, как бы ища у него разгадки того, что, собственно, произошло с ним.
— Осмелюсь доложить, господин майор, — сказал Швейк, — сюда уже несколько раз приходили из караульного помещения, чтобы убедиться, живы ли вы. Поэтому я позволил себе разбудить вас теперь, так как я не знаю, в котором часу вы встаете. На пивоваренном заводе в Угржиневеси работал один бондарь. Он спал обыкновенно до шести часов утра, но если проспит хотя бы четверть часика, то есть до четверти седьмого, то уже потом дрыхнет до полудня; он делал это до тех пор, пока его не выгнали с завода; со злости он потом нанес оскорбление церкви и одному из членов царствующей фамилии.
— Ты глюпый? Так! — крикнул майор не без некоторого отчаяния, так как после вчерашнего голова его напоминала разбитый горшок, и ему все еще было непонятно, почему он здесь сидит, зачем приходили из караульного помещения и почему этот парень, который стоит перед ним, болтает такие глупости, что не поймешь, где начало, где конец. Все казалось ему очень странным. Он смутно вспоминал, что был уже здесь как-то ночью, но зачем?
— Я уже быль раз ночью здесь? — спросил он не совсем уверенно.
— Согласно приказу, господин майор, — ответил Швейк, — насколько я понял из слов господина майора, осмелюсь доложить, господин майор пришли меня допросить.
Тут у майора прояснилось в голове, он посмотрел на себя, потом оглянулся, как бы отыскивая что-то.
— Не извольте ни о чем беспокоиться, господин майор, — успокоил его Швейк. — Вы проснулись совершенно так, как пришли. Вы пришли сюда без шинели, без сабли, но в фуражке. Фуражка там. Мне пришлось ее взять у вас из рук, так как вы хотели подложить ее себе под голову. Парадная офицерская фуражка — все равно что цилиндр. Выспаться на цилиндре умел только один пан Кардераз в Лоденице. Тот, бывало, растянется в трактире на скамейке, подложит цилиндр под голову, — он ведь пел на похоронах и ходил на похороны в цилиндре, — так вот, подложит цилиндр под голову и внушит себе, что не должен его помять. Целую ночь, бывало, парил над цилиндром незначительной частью своего веса, так что цилиндру это нисколько не вредило, наоборот, это ему даже шло на пользу. Поворачиваясь с боку на бок, Кардераз своими волосами лощил его так, что он всегда был как выутюженный.
Майор теперь уже сообразил, что к чему, и, не переставая тупо глядеть на Швейка, повторял:
— Ты дурить? Да? Я быть здесь — я идти отсюда… — Он встал, пошел к двери и громко постучал.
Прежде чем пришли открыть, он успел сообщить Швейку:
— Если телеграмм не прийти, что ты есть ты, то ты будеть висель.
— Сердечно благодарю, — ответил Швейк, — я знаю, господин майор, вы очень заботитесь обо мне, но если вы, господин майор, может, тут на тюфяке одну подцепили, то будьте уверены, если маленькая и с красноватой спинкой, так это самец, и если он только один и вы не найдете такую длинную серую с красноватыми полосками на брюшке, тогда хорошо, а то была бы парочка, а они, эти твари, ужас как быстро размножаются, еще быстрее, чем кролики.
— Lassen Sie das!512 — упавшим голосом сказал майор Швейку, когда ему отпирали дверь.
В караульном помещении майор уже не устраивал никаких сцен. Он очень сдержанно распорядился послать за извозчиком и, трясясь в пролетке по скверной мостовой Перемышля, все думал о том, что преступник — идиот первой категории, но все же, по-видимому, это невинная скотина, а ему, майору, остается одно из двух: или немедленно, вернувшись домой, застрелиться, или же послать за шинелью и саблей к генералу и поехать в городские бани выкупаться, а после бань зайти в винный погребок у Фолльгрубера, как следует там подкрепиться и заказать по телефону билет в городской театр.
Не доехав до своей квартиры, он выбрал второе.
На квартире его ожидал небольшой сюрприз. Он подоспел как раз вовремя…
В коридоре квартиры стоял генерал Финк. Он держал за шиворот денщика и, тряся его изо всех сил, орал:
— Где твой майор, скотина? Отвечай, животное!
Но животное не отвечало. Лицо у него посинело: генерал слишком сильно сдавил ему горло.
Подошедший во время этой сцены майор заметил, что несчастный денщик крепко держит под мышкой его шинель и саблю, которые он, очевидно, принес из передней генерала.
Сцена эта показалась майору забавной, поэтому он остановился у приоткрытой двери и молча смотрел на страдания своего верного слуги, давно уже сидевшего у него в печенках: денщик постоянно его обворовывал.
Генерал на момент выпустил посиневшего денщика, единственно для того, чтобы вынуть из кармана телеграмму, которой затем он стал хлестать денщика по лицу и по губам, крича при этом:
— Где твой майор, скотина? Где твой майор-аудитор, скотина, чтобы я смог передать ему служебную телеграмму?..
— Я здесь, — отозвался майор Дервота, которому сочетание слов «майор-аудитор» и «телеграмма» снова напомнило о его прямых обязанностях.
— А-а! — воскликнул генерал Финк. — Ты вернулся?
В его голосе было столько яду, что майор ничего не ответил и в нерешительности остался стоять в дверях.
Генерал приказал ему следовать за ним в комнату. Когда они сели, он бросил исхлестанную об денщика телеграмму на стол и произнес трагическим голосом:
— Читай, это твоя работа.
Пока майор читал телеграмму, генерал бегал по комнате, опрокидывая стулья и табуретки, и вопил:
— А все-таки я его повешу!
Телеграмма гласила следующее:
«Пехотинец Йозеф Швейк, ординарец одиннадцатой маршевой роты, пропал без вести 16-го с. м. на переходе Хыров — Фельдштейн, будучи командирован как квартирьер. Немедленно отправить пехотинца Швейка в Воялич, в штаб бригады».
Майор выдвинул ящик стола, достал оттуда карту и задумался: Фельдштейн находится в сорока километрах к юго-востоку от Перемышля. Каким образом к Швейку попала русская форма в местности, находящейся на расстоянии свыше ста пятидесяти километров от фронта, — остается неразрешимой загадкой. Ведь окопы тянутся по линии Сокаль — Турза — Козлов.
Когда майор сообщил об этом генералу и показал на карте место, где, согласно телеграмме, несколько дней назад пропал Швейк, генерал заревел, как бык, так как почувствовал, что все его надежды на полевой суд рассыпались в пух и прах. Он подошел к телефону, вызвал караульное помещение и отдал приказ — немедленно привести на квартиру майора арестанта Швейка.
В ожидании исполнения приказа генерал со страшными проклятиями выражал свою досаду на то, что не распорядился повесить Швейка немедленно, на собственный риск, без всякого следствия.
Майор возражал и все твердил что-то о законе и справедливости, которые идут рука об руку; он в пышных периодах ораторствовал о справедливом суде, о роковых судебных ошибках и вообще обо всем, что приходило ему в голову, ибо с похмелья у него сильно болела голова и он испытывал потребность рассеяться разговором.