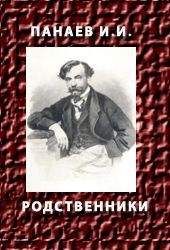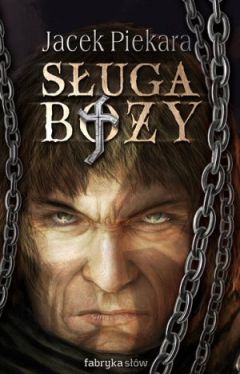Олимпиада Игнатьевна остановилась и утерла слезы. Наташа с беспокойством смотрела на нее. Но Олимпиада Игнатьевна взяла ее за руку и сказала нежным голосом, указав на диван:
- Сядь сюда, ангел мой… - потом осмотрелась кругом, приперла дверь и, наконец, села возле Наташи. - Я должна поговорить с тобой серьезно. Ты у меня доброе, благоразумное дитя… - и она погладила Наташу по головке. - Ты всегда была моим утешением. Я уверена, что ты примешь так, как следует, то, что я скажу тебе… Захар
Михайлыч приезжал к нам сегодня затем, чтобы просить у меня руки твоей. Ты понимаешь, Наташа, как нам должно быть лестно такое предложение. Захар Михайлыч с именем, генерал, богат, пользуется всеобщим уважением, и притом всем известно, что у него доброе сердце. Лучшего мужа тебе нельзя найти. С ним ты будешь счастлива; он не то, что эта молодежь. Он человек солидный, прекрасных правил, отличной нравственности. Что касается до меня, я уже дала ему полное согласие и готова хоть сию минуту благословить вас; но он желал, чтобы я переговорила с тобою, друг мой.
Олимпиада Игнатьевна, окончив это, посмотрела на Наташу, ожидая ее ответа.
Наташа молчала. Она как будто окаменела от слов маменьки.
- Что же ты скажешь на это? - спросила ее Олимпиада Игнатьевна.
- Да я не знаю его, я никогда не говорила с ним двух слов… - сказала Наташа.
- Так что ж? Наговоришься после, мой друг…
- О нет, маменька! - вскрикнула Наташа. - Я не могу любить этого человека, я не знаю его. Маменька! я должна теперь высказать вам все… Вы не захотите моего несчастья.
Вы поймете меня…
Наташа, рыдая, бросилась на грудь к Олимпиаде Игнатьевне и произнесла:
- Я люблю Григорья Алексеича, я никогда не пойду ни за кого на свете, кроме его.
- Так ты решишься выйти замуж без моего благословения и согласия?
- Он также любит меня, - продолжала Наташа, - он хотел говорить с вами… Вы благословите нас?
- С этой минуты нога его не будет на пороге моего дома, - произнесла Олимпиада
Игнатьевна решительно, - потому что с этой минуты ты невеста Захара Михайлыча.
Понимаешь?..
- Нет, - сказала Наташа еще с большею решительностью и силою, - я никогда не буду его невестою…
Олимпиада Игнатьевна посмотрела на Наташу, как будто желая удостовериться, не помешалась ли она.
- Наташа! Наташа! что это значит! Ты хочешь убить меня? Наташа!
- Что же вам угодно от меня? - спросила Наташа, совершенно потерянная.
- Как! и ты еще спрашиваешь, что мне угодно?.. Я хочу, чтобы ты повиновалась мне! я больше ничего не хочу, больше ничего от тебя не требую…
- Маменька, простите меня. Я не могу, это не в моей власти. - Наташа бросилась к ногам матери.
- Прочь от меня, неблагодарная! Ты убила меня! - закричала Олимпиада
Игнатьевна, шатаясь…
Олимпиада Игнатьевна была, точно, убита. Она не выходила целый день из своей спальни и ни с кем не говорила, а только стонала, охала и обращала от времени до времени, качая головой, слезящие очи свои на темные лики божиих угодников, к которым всегда прибегала она и в минуту радости, и в минуту горя. Двадцать лет Олимпиада
Игнатьевна постоянно употребляла все средства, все усилия, чтобы искоренить, уничтожить в дочери самостоятельность и волю, чтобы сделать из нее автомата, которого она могла бы приводить в движение только по собственному желанию; в продолжение двадцати лет внушала она ей безусловную покорность, смирение, безответность, благоговение перед старшими и все возможные христианские добродетели; в продолжение двадцати лет она носила в груди своей утешительную мысль, что вполне достигла своей цели и что ее Наташа самая нравственная, самая примерная, самая безответная, нежная и послушная из дочерей, - и вдруг так страшно разувериться во всем этом, и вдруг увидеть тщету своих двадцатилетних усилий!..
Во всю ночь несчастная мать не смыкала глаз и все утро ожидала Захара
Михайлыча с мучительным нетерпением. Но когда он приехал, она, затаив в себе свои тяжкие страдания, встретила его с приятной и веселой улыбкой, как будто ни в чем не бывало. Она сказала Захару Михайлычу, что Наташа простудилась и занемогла и не может выходить из своей комнаты, что она ничего еще с ней не говорила, но что в согласии ее нисколько не сомневается, что дело можно считать решенным и что на днях, тотчас как только ей будет немного полегче, она благословит их. Олимпиада Игнатьевна не теряла еще надежды, что Наташа в продолжение нескольких дней или сама образумится и раскается, или изнеможет в бессильной борьбе и принуждена будет покориться. Но, увы! к удивлению Олимпиады Игнатьевны, ни угрозы, ни обмороки, ни проклятия - эти могущественные атрибуты материнской власти, - ничего не действовало. Наташа оставалась непреклонною. И надобно было иметь много любви, много твердости, много самоотвержения, чтобы устоять против всего этого!
Между тем Григорий Алексеич, очень хорошо и подробно знавший обо всем происходившем в селе Брюхатове, впал в бессильное отчаяние. Совершенно растерявшись, он прибегнул наконец к Сергею Александрычу за советами.
- Мой совет, - сказал ему Сергей Александрыч, - поскорей все это чем-нибудь кончить. Это ясно. Если ты ее любишь и хочешь жениться на ней, что, по-моему, очень глупо, - то я готов тебе от души способствовать всеми силами. Мы увезем ее, это будет очень легко, потому что она не станет сопротивляться. Я, разумеется, рассорюсь на время по этому случаю с тетушкой, что меня нисколько не приведет в отчаяние. Мы тайно обвенчаем вас; после этого, как водится, на вас посыплются проклятия; тетушка запретит произносить перед нею ваше имя, а потом мало-помалу смягчится, помирится и благословит… Но если ты еще колеблешься, если ты сомневаешься в своей любви, - я, признаться-таки, давно подозреваю это, - в таком случае отправляйся-ка поскорее в
Петербург… Я тоже ни за что не останусь здесь долго и приеду вслед за тобою. Наташа помучится, поплачет, а потом успокоится, покорится своей участи и по необходимости отдаст свою руку и сердце Захару Михайлычу, с которым она, право, будет счастливее, чем с тобою…
Но Григорий Алексеич не удовлетворился этими простыми советами.
"Счастливый человек! Как ты легко обо всем судишь! как ты скоро решаешь все!" - думал он, слушая Сергея Александрыча с иронией, - и продолжал терзаться в бездействии и нерешительности.
Так прошло еще несколько дней. И чего не перенесла в эти дни Наташа! Петруша, на защиту которого она надеялась сначала, этот Петруша, который так горячо обещал некогда воевать за нее со старым поколением, - и он действовал теперь против нее, еще более раздражая и поджигая маменьку. Наконец Олимпиада Игнатьевна, измученная собственными слезами, припадками и обмороками, истощив весь запас материнских средств для убеждения непокорной дочери, выбилась из сил и прибегнула к родственной помощи, как ни больно было это для ее самолюбия. Родственники, по просьбе ее, съехались к ней на совещание.
После долгих переговоров решено было общими силами усовещивать Наташу. Ее призвали. Родственники встретили ее со строгими и печальными лицами. Олимпиада
Игнатьевна сидела между ними, прислонясь головою к подушке. Она тяжело дышала и охала и не обратила никакого внимания на вошедшую Наташу. Возле нее находились с одной стороны невестка ее, вдова меньшого брата ее, а с другой - двоюродная сестра ее.
Они беспрестанно поправляли ей подушку, смотрели ей в глаза и спрашивали с плачевной гримасой:
- Ну что, как вы себя чувствуете, сестрица? Не хотите ли понюхать уксусу? Не приложить ли вам хрену за уши? - и прочее.
Олимпиада Игнатьевна на все это только качала отрицательно головой и с чувством жала им руки.
- Садитесь, милая, - сказала Наташе одна из тетушек суровым голосом и толкнула к ней стул.
Наташа села.
С минуту длилось молчание, но нельзя было сказать, чтобы в эту минуту пролетел тихий ангел.
Дядюшка Наташи с отцовской стороны, лет пятидесяти пяти, с физиономией благонамеренной и приятной и с брюшком, на котором колыхалась огромная сердоликовая печатка, - первый прервал это молчание… Дядюшка был человек с весом.
Он занимался винными откупами и владел замечательным даром слова.
Дядюшка с важностью раза два откашлялся и потом обратился к племяннице:
- Все глубоко и истинно тронуты… - сказал он, - я говорю не только о родственниках, но и о посторонних, до которых дошли слухи об этом…
Дядюшка любил вставочные предложения.
- …Все, я говорю, мы глубоко опечалены тем положением, в которое повергнута достойная и всеми по справедливости уважаемая матушка твоя, тем более что причиною этой горести… вернее сказать, отчаяния, - ты, дочь ее, от которой она, конечно, кроме утешения, ничего не могла ожидать более…
Дядюшка приостановился и еще раз откашлялся. Родственники слушали его, как оракула.