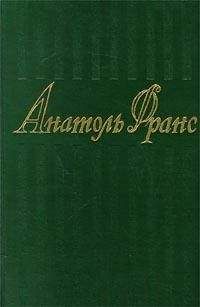Так говорил учитель, но в этот миг слова его заглушил бой барабанов…
Итак, стоя на Новом мосту, мы услыхали бой барабанов. Это набирали под ружье солдат в армию; сержант-вербовщик, лихо подбоченясь, важно выступал во главе дюжины солдат, у которых на штыках были нанизаны колбасы и булки. Столпившиеся вокруг мальчишки и оборванцы глазели на него, разинув рты.
Сержант, подкрутив усы, громко огласил воззвание.
— Не стоит слушать, — сказал мне мой добрый учитель. — Только время терять. Этот сержант выступает от имени короля, у него нет никакого дара выдумки. Если хотите услышать настоящие речи на эту тему, ступайте в какой-нибудь кабачок на Скобяной набережной, где эти мошенники завлекают лакеев да деревенских простаков. Вот там этим плутам приходится быть краснобаями. Помнится, как-то в юности, еще при покойном короле, мне довелось услышать поистине потрясающую речь одного такого торговца людьми, который закупал свой товар на Нищем Доле, его отсюда хорошо видать, сын мой. Он набирал людей для отправки в колонии. «А ну, молодцы, — говорил он, — вы, наверно, слышали не раз о благословенной счастливой стране изобилия, — чтобы попасть в этот обетованный край, надобно отправиться в Индию, а там уж всего вдоволь — сколько душе угодно! Желаете вы золота, жемчугов, алмазов? Ими там улицы мостят, только нагнись да подбирай. Да и нагибаться-то не надо! Дикари их вам наберут. Я уж не говорю про кофе, лимоны, гранаты, апельсины, ананасы и тысячи других замечательных плодов, которые растут сами собой, без всякого ухода, как в раю земном. Ежели бы передо мной были девки да ребятишки, я бы им порассказал обо всех этих лакомствах, но ведь я с мужчинами говорю!» Не стану уж повторять, сын мой, всего, что он там разглагольствовал о славе, но, поверьте, что силой убеждения он не уступал Демосфену, а красноречием превзошел самого Цицерона. Наслушавшись его, пятеро или шестеро из этих бедняг отправились помирать в болотах от желтой лихорадки. Вот оно и выходит, что красноречие — опаснейшее оружие, и чары искусства, направлены ли они к добру, или ко злу, — одинаково обладают неодолимым могуществом. Возблагодарите господа, Турнеброш, за то, что он, не наделив вас никакими талантами, избавил вас от опасности стать когда-нибудь бичом народов. Люди, угодные богу, сын мой, узнаются по тому, что они лишены разума; я на себе убедился, что живость ума, коей меня наградило небо, — это непрестанная угроза моему спокойствию как здесь, на земле, так и в жизни будущей. А что было бы, если бы в груди моей обитало сердце Цезаря, а в голове— его разум? Мои вожделения не различали бы пола, и я был бы недоступен чувству жалости. Я бы разжег в своей стране и далеко за ее пределами множество неугасимых войн. Хорошо ещё, что этот великий Цезарь обладал благородной душой и некоторой мягкостью. Он умер благопристойно от меча своих добродетельных убийц. О день Мартовских Ид, навеки злосчастный день, когда сии брутальные назидатели прикончили этого пленительного изверга! Я почитаю себя достойным оплакивать божественного Юлия рядом с его матерью, Венерой, и ежели я называю его извергом, то лишь любя, ибо его ровный дух был чужд каких-либо крайностей, за исключением властности. Он обладал врожденным чувством ритма и меры. В юности он с одинаковым пылом предавался наслаждениям плоти и утехам грамматики. Он был оратором, и красота его несомненно оживляла нарочитую сухость его речей. Он любил Клеопатру с той же геометрической четкостью, какую он вносил во все свои замыслы. Его сочинения, как и его поступки, отмечены духом ясности. Он был другом порядка и мира даже в самой войне; чуткий к гармонии, он был столь искусным законодателем, что даже мы, варвары, и поныне живем под сенью величия его власти, которая сделала мир тем, чем он является ныне. Ты видишь, сын мой, что я не скуплюсь воздать ему хвалу и выразить свою приверженность. Полководец, диктатор, верховный жрец, он лепил мир своими прекрасными руками. А я, бывший преподаватель красноречия коллежа в Бове, секретарь оперной дивы, библиотекарь его преосвященства епископа Сеэзского, писец при кладбище святого Иннокентия и наставник сына вашего родителя из «Харчевни королевы Гусиные Лапы», — я составил превосходный каталог редких рукописей, сочинил несколько пасквилей, о коих лучше не упоминать, и написал на оберточной бумаге размышления, отвергнутые издателями; все же я не поменял бы свою жизнь на жизнь великого Цезаря. Слишком дорого это обошлось бы моей невинности. По мне, лучше быть человеком безвестным, бедным и презираемым, каков я и есть на самом деле, нежели возноситься на вершины и открывать новые судьбы человечеству, к коим надо идти кровавым путем.
Этот вербовщик-сержант, который, как вы слышите, сулит беднякам по су в день, не считая хлеба и мяса, наводит меня, сын мой, на глубокие размышления касательно войны и войска. Кем-кем я не был на своем веку, но только не солдатом, ибо военное ремесло всегда внушало мне отвращение и ужас присущими ему чертами рабства, тщеславия и жестокости, кои как нельзя более претят моей миролюбивой натуре, моей необузданной любви к свободе и моему разуму, ибо он, здраво рассуждая о славе, знает настоящую цену славе оружия. Я уж не говорю о моей неодолимой склонности к размышлениям, которой весьма досаждали бы упражнения с саблей и ружьем. И вам должно быть понятно, что я, отнюдь не стремясь быть Цезарем, не желаю также быть ни Фанфан-Тюльпаном, ни Сердцеедом[39]. И я не скрою от вас, сын мой, что военная служба представляется мне самой страшной язвой цивилизованных народов. Это чувство философа. А посему нет никакой вероятности, что его когда-либо будут разделять многие. В действительности, и короли и республики всегда будут находить столько солдат, сколько понадобится для их парадов и войн. Я читал у господина Блезо в его лавке «Под образом святой Екатерины» трактаты Макиавелли[40] в прекрасных пергаментных переплетах. Они их заслужили, сын мой; и я со своей стороны бесконечно уважаю этого флорентинца за то, что он первый отринул в деяниях государственных мужей основу справедливости, на коей они никогда не воздвигали ничего иного, кроме прославленных злодейств. Сей флорентинец, видя отчизну свою отданной на милость наемных солдат, подал мысль о национальном и патриотическом войске. В одном из своих сочинений он говорит, что, по справедливости, все граждане должны заботиться о безопасности родины и быть солдатами. В той же лавке господина Блезо я слышал, как эту идею поддерживал господин Роман, который, как вы знаете, чрезвычайно печется о правах государства. Он мыслит только об общем и целом и не успокоится до тех пор, пока все частные интересы не будут принесены в жертву интересу общественному. Так вот, Макиавелли и господин Роман желают, чтобы все мы были солдатами, поскольку мы все граждане. Не стану утверждать подобно им, что это справедливо. Но не скажу также, что это несправедливо, ибо справедливость и несправедливость зависят от того, как к сему подойти, а это уж такой вопрос, который надо предоставить софистам.
— Как! дорогой учитель! — воскликнул я с горестным удивлением, — вы полагаете, что справедливость зависит от доводов софиста и что наши действия справедливы или несправедливы в зависимости от доказательств ловкого говоруна? Это утверждение так меня потрясает, что я даже и сказать не умею.
— Турнеброш, сын мой, — отвечал г-н аббат Куаньяр, — не забывайте, что я говорю о справедливости человеческой, которая отнюдь не похожа на справедливость божественную и по существу своему прямо противоположна ей. Люди всегда утверждали понятие справедливого и несправедливого не иначе, как красноречием, которое одинаково способно приводить доводы «за» и «против». Вы хотите, быть может, сын мой, чтобы справедливость опиралась на чувство, но берегитесь, ибо такая опора годится лишь на то, чтобы построить скромный домашний приют, шалаш старого Эвандра или хижину, где обитал Филемон со своей Бавкидой[41]. Но дворец законов, твердыня государственных установлений, требует иного фундамента. Простодушной природе не под силу выдержать одной сие неправедное бремя, эти грозные стены воздвигаются на прочных устоях древней лжи лукавым и свирепым искусством законодателей, судей и монахов.
Бессмысленно вопрошать, Турнеброш, сын мой, справедлив или несправедлив какой-нибудь закон, и это так же верно в отношении военной службы, как и других установлений, о коих нельзя сказать, хороши они по сути своей или плохи, ибо нет сути вне господа бога, от кого все ведет свое начало. Вам следует остерегаться, сын мой, этого рабства словесного, коему люди поддаются с такой покорностью. Знайте же, что слово «справедливость» ровно ничего не значит, кроме как в богословии, где оно обладает страшной выразительностью. И знайте, что господин Роман не что иное, как софист, коль скоро он доказывает, что должно служить монарху. Однако я полагаю, что если какой-нибудь монарх повелит всем гражданам стать солдатами, все ему подчинятся, не скажу — с кротостью, но с веселием. Я заметил, что человеку более всего по душе ратное дело, ибо это то, к чему он естественно склонен по своим инстинктам и вкусам, а они у него не все хороши. И за редкими исключениями, к коим отношусь и я, человека можно определить как животное с ружьем. Оденьте его в нарядную форму и дайте надежду подраться, — и он будет доволен. Поэтому-то мы и почитаем ратную службу самым благородным занятием, что, конечно, в некотором смысле даже верно, ибо оно самое древнее, и первые люди на земле уже вели войну. Кроме того, поенное ремесло еще и тем под стать природе человеческой, что тут не надо думать, а мы, разумеется, и не созданы для того, чтобы думать.